Дмитрий Мамин-Сибиряк - Том 5. Сибирские рассказы.
- Название:Том 5. Сибирские рассказы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Правда
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мамин-Сибиряк - Том 5. Сибирские рассказы. краткое содержание
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
Собрание сочинений в десяти томах. Том 5.
Том 5. Сибирские рассказы. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Когда перевязка кончилась, в руках у Васьки появился точно сам собой двоегривенный, — это сунула Ульяна, уже без всякой просьбы, точно она хотела утешить поврежденное детище. Она выскочила за ворота, провожая уходившего в кабак Ваську. Он и шел не так, как другие, по самой средине улицы, волоча по пыли одну полу азяма. В дверях кабака ждала возвращения Васьки кучка кабацких завсегдатаев. Когда низенькая, расщелившаяся и захватанная грязными руками кабацкая дверь проглотила могучее Васькино тело, Ульяна вернулась в избу и, повалившись на лавку, глухо зарыдала. Нужно же было выплакать свое старое горе, свою материнскую любовь и женскую беспомощность.
Эта живая картинка с натуры расстроила обычный порядок моего дня. Я долго ходил по комнате, прислушиваясь к подавленным всхлипываниям Ульяны, и какое-то тяжелое и гнетущее чувство мешало приняться за обычную работу, точно и комната сделалась вдруг меньше, и воздух сперся, и какой-то мертвой истомой дохнуло в открытое оконце с накаленной летним степным солнцем улицы. В такие жаркие июльские дни станица Умет точно вымирала. Даже станичные собаки, и те исчезали неизвестно куда Действительно, степное солнце жжет так немилосердно, что не хочется двигаться, да и некуда, если бы даже явилась к тому охота, — кругом станицы разлеглась ковыльная степь, желтым ковром уходившая из глаз. Лес был вырублен самым безжалостным образом, и кизяк служил единственным топливом. Дождя не было уже около двух недель, и солнце по утрам поднималось в дымном мареве, красное и громадное, точно только что раскаленнее где-нибудь в кузнечном горне. Жизнь в станице проявлялась только по утрам и вечерам, когда спадал степной зной.
— Ульяна, поставь мне самовар, — проговорил я наконец, чтобы хоть этим отвлечь внимание бедной старухи от ее горя.
— И то поставлю, барин, — отозвалась она своим обычным заботливым тоном. — Вон какая жарынь на дворе… Спалило совсем.
К особенностям Ульяны принадлежала способность необыкновенно быстро двигаться, хотя старухе было уже под семьдесят. Когда она спала, я не знаю, потому что в течение двух недель постоянно видел ее на ногах. Домик Ульяны в станице был лучшим, и я занимал в нем отдельную комнату, убранную с некоторой претензией на удобства. Беленая печка, деревянная кровать за ситцевым пологом, зеленый шкаф для посуды, оклеенный обоями передний угол и несколько деревянных стульев говорили о лучших временах, когда еще был жив муж Ульяны, станичный атаман. Она была дочерью атамана и вышла замуж за нового атамана. Впрочем, это было только одно громкое слово, так как станичные атаманы оренбургского казачьего войска мало чем отличаются от других рядовых казаков.
За самоваром по вечерам у нас с Ульяной велись длинные, душевные разговоры. Старушка любила чай, но должна была отказывать себе и в этом единственном удовольствии, потому что какие старушечьи достатки, а от Васьки немного поживишься. Поставленный в неурочное время самовар сейчас являлся для Ульяны лучшим утешением, хотя она, по обычаю, из вежливости и отказывалась от чая. В этой высохшей старушке было так много деликатности и какой-то детской застенчивости, чем она мне особенно нравилась. Глядя на нее, так и казалось, что это уже не человек, а одна тень, — жизнь оставалась назади, в далеком прошлом. Переходы от одного чувства к другому совершались в ней тоже с детской быстротой, и, выпивая вторую чашку, Ульяна уже улыбалась.
— Васька-то, беспутный, на какого башкыретина натакался! — повторяла она с улыбкой, покачивая маленькой головкой, как у сушеной рыбы, точно говорила о ком-то постороннем. — А не ходи на байгу, не связывайся с ордой… Все равно уходят когда-нибудь, — прибавила она уже совсем равнодушно.
— Кого уходят, бабушка?
— А его же, Ваську… Не сносить ему своей головы, потому как сам везде лезет. Какой-то он смешной, право… Вот этак живет-живет в станице, год живет, два живет, а потом придет и говорит: «Мамынька, уйду я от вас… провалитесь вы совсем и с вашей станицей… Тошно мне и глядеть-то на вас». Ну, и уходи, коли тошно. А я уж знаю его повадку: уйти-то уйдет да и воротится, беспременно воротится. Тянет его в станицу… Теперь вот огоревал себе меленку, так сколько по-живется. Кабы у Васьки ум был, так как бы он жил-то… ох-хо-хо!.. В степе он гурты гонял, так приехал домой о двуконь, седло в наборе серебряном, на самом два шелковых халата, и мне привез шелковый платок. Тоже, значит, вспомнил мать-то… Право, такой отличный платок. Ну, а потом все и пропил и платок дареный у меня же из сундука выкрал. За этот самый платок ему же и досталось: замертво привезли… Ох-хо-хо! Сижу вот этак же под вечер у окошка, пряду шерстку, а Ваську на телеге и привозят. Так меня всю и захолонуло… Выскочила, гляжу, а он совсем мертвый, а от лица и званья нет. Одежда на ем вся испластана, сам в крови, глаза опухом затянуло, лежит в телеге и не шевельнется. Так замертво и в избу внесли… Уж я его обихаживала-обихаживала: и мыла, и натирала, и мазью мазала, и в бане по три дня с одной старушкой правила, — нето-нето, мой Васька одыбался. Вот он какой, утешитель-то мой. А как открыли у нас вблизи золото да пошли промысла, так и способов никаких с Васькой не стало. Этак же вот одинова его в шахте нашли: ни рукой, ни ногой… Опять я же его налаживала. Стану его спрашивать: «Кто тебя, Васька, убил?» Молчит. Крепкий он на язык, не обмолвится. Сегодня вот про башкыретина сказал, а то головой своей беспутной тряхнет — и весь тут наш разговор. Взъедаюсь я на него, и сильно взъедаюсь, а в другой раз и согрешу — пожалею… Своя кровь, а материнское сердце зла не помнит. Да и какой-то он, Васька-то, особенный уродился: все люди как люди, а его ни к чему не применишь, точно он заговоренный.
Ульяна несколько раз во время своего рассказа принималась плакать, а потом смеялась сквозь слезы и переходила к новым подвигам своего беспутного Васьки. Но это была, так сказать, экстраординарная тема, вызванная исключительными событиями, и, когда материал исчерпался в достаточной степени, старушка перешла к наклонной плоскости своих старушечьих воспоминаний — главный предмет наших чайных бесед. Да и было о чем вспоминать Ульяне, этой пожелтевшей странице станичной летописи. Она помнила еще то время, когда на Умет нападали киргизы, то есть не на самую станицу, а на людей в поле.
— Как же, наезжала эта орда на нас, и баушку мою с матерней стороны кыргызы в полон увели, — рассказывала Ульяна. — Попа тоже тогда в полон увели, а чтобы он не убежал, так сило (конский волос) настригли, разрезали попу пятки, да в пятки и насыпали. Когда я еще совсем девчонкой была, так одного нашего казака кыргызы вон на том увале копьями скололи… Березнячок тогда рос по увалу-то, ну казак и идет по нему с покоса, а на них кыргызы и наехали. Жена-то побежала, а казак на кыргызов бросился, чтобы ущитить жену, ну, а они его искололи копьем. На другой день его еще живого привезли. Я бегала посмотреть: лежит в телеге и стонет, а из-под телеги кровь каплет… Кончился через день. Комендант у нас дрянной был, и солдаты все какие-то беззубые да кривые. Ну, он, комендант-то, заместо того, чтобы оборонять вдову, ее же за кыргыза Измаила замуж отдал, потому она стала бы просить свою вдовью часть с него, с коменданта-то… Измаил-то и убил казака, а комендант ему вдову отдал.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
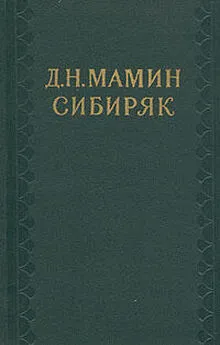
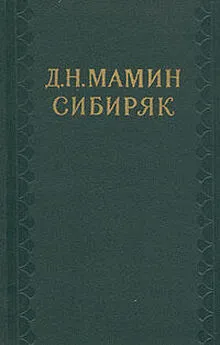
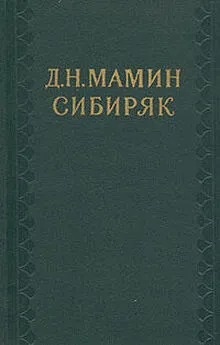
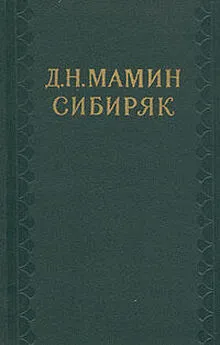
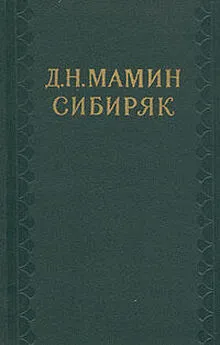
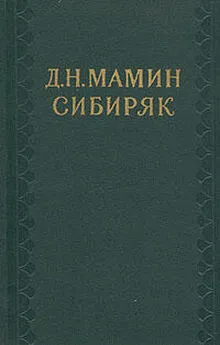
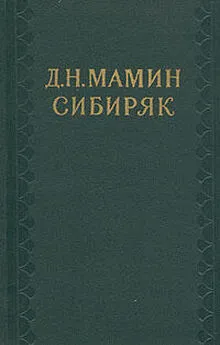
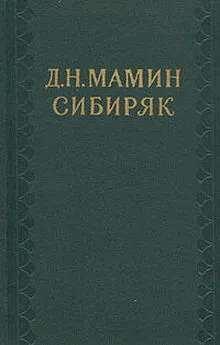
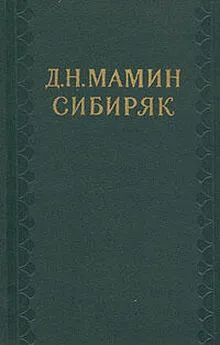
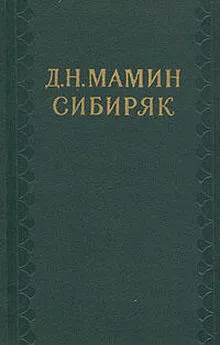
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы]](/books/1061784/dmitrij-mamin-sibiryak-zhivaya-voda-rasskazy.webp)