Дмитрий Мамин-Cибиряк - Том 6. Сибирские рассказы и повести. Золотопромышленники. 1893-1897
- Название:Том 6. Сибирские рассказы и повести. Золотопромышленники. 1893-1897
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд газеты «Правда»
- Год:1958
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Мамин-Cибиряк - Том 6. Сибирские рассказы и повести. Золотопромышленники. 1893-1897 краткое содержание
Мамин-Сибиряк — подлинно народный писатель. В своих произведениях он проникновенно и правдиво отразил дух русского народа, его вековую судьбу, национальные его особенности — мощь, размах, трудолюбие, любовь к жизни, жизнерадостность. Мамин-Сибиряк — один из самых оптимистических писателей своей эпохи.
Собрание сочинений в десяти томах. Том 6. Сибирские рассказы и повести. 1893–1897. Продолжение. (Начало «Сибирских рассказов» напечатано в V томе). Золотопромышленники.
Том 6. Сибирские рассказы и повести. Золотопромышленники. 1893-1897 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Мы и до министра дойдем!.. — кричали самые смелые.
В видах предосторожности, Шулятников велел наглухо затворить массивные железные ворота господского дома и никого не пускать. На фабрике он появлялся только на самое короткое время и большею частью неожиданно.
— Уж вы потерпите как-нибудь, Кирило Григорьич, — уговаривал его Утяков. — Только бы завести их, подлецов, в оглобли.
Самым больным местом являлись забастовавшие углежоги. Завод невозможно было остановить, а старые запасы быстро истощались. Наступившая весна грозила тем, что заводы останутся без дров и угля. Чтобы выйти из затруднительного положения, Шулятников прибег к крайней мере: он сдал подряды посторонним крестьянам, которым даже набавил цену. Это повело к тому, что произошел целый ряд недоразумений между коренными углежогами и посторонними рабочими.
— Конечно, дроворубов везде можно найти, — соглашался Утяков, являвшийся чем-то вроде постороннего советчика. — Погодите, упыхаются…
Такая же история вышла с транспортом металлов, с подвозом руды и другими статьями заводского хозяйства. Где отказывались выходить на работу свои, немедленно ставили чужих. Молчала, но не сдавалась одна фабрика. Здесь работал привычный к огненному делу народ, тот заводский рабочий, который выработался поколениями. Шулятников иногда сам любовался на работу лучших мастеров, составлявших гордость и славу Максунских заводов. Такой живой рабочей силы не найти в целой России. И какой народ: рослый, здоровый, красивый — настоящая заводская гвардия, по сравнению с которой российский мастеровой или фабричный просто жалки.
Фабрика терпела и молчала целый год. Были, конечно, разрозненные проявления недовольства, но они не имели особенного значения. Рабочая масса имела значение только в своем полном составе, да и она так привыкла к своему делу, что ей трудно было с ним расстаться. Ждали решения от коноводов, от тех старых мастеров, которые составляли голову.
— Ничего, привыкнут… Сами укротят себя, — нашептывал Утяков, с напряженным вниманием следивший за ходом дела. — Конечно, вам-то тяжело Достается, Кирило Григорьич, да что поделаешь…
— Ах, терплю, все терплю… — жаловался Шулятников, устало закрывая глаза. — Дорого бы я дал, чтобы развязаться с этими проклятыми заводами. Точно я для себя хлопочу… Ведь если разобрать, так я, право, святой человек, Спиридон Дмитрии.
— Совершенно святой… А вы не сомневайтесь; укоротятся. Только вовремя надо и повода отпустить… Тоже живые люди.
— Ну, уж извините: этого никогда не будет. Понимаете, принцип…
Как оказалось потом, у фабрики оказался свой принцип.
Стояла весна, та ранняя весна, которая на Урале является редкой и дорогой гостьей. Весело синели высокие горы, обложившие завод со всех сторон, зеленел лес, распускался живой ковер лесных цветов и пахучих трав. С балкона господского дома открывался великолепный вид на горную панораму, уходившую из глаз туманными силуэтами. Фиолетовые дали тонули в переливавшейся розовой мгле. Шулятников по целым часам сидел на балконе и любовался, — ведь кругом было так хорошо. У плотины подавленно гудела и точно скрежетала железными зубами фабрика, глухо шумела на сливах вода, а от плотины живой гладью уходил к самому лесу громадный пруд. При господском доме находилась великолепная оранжерея и старый сад с тенистыми аллеями, клумбами и куртинами. У садовника-немца готовились чудеса, и он терпеливо выжидал времени, когда можно будет высаживать цветы на воздух. Оранжерея была пощажена от сокращений и урезок, потому что Шулятников любил цветы, — можно же себе позволить маленькую роскошь. Он если не сидел на балконе, то уходил в оранжерею и там проводил целые часы.
Раз, когда Шулятников прогуливался в какой-то мудреной тепличке с ананасами, туда ворвался Утяков. Старик был без шапки и выглядел сумасшедшим.
— Что такое случилось? — удивился Шулятников. — Пожар?
— Нет…
— Плотину прорвало?
— Нет…
По лицу Шулятникова промелькнула тень недовольства: он не любил, чтобы ему мешали даже в пустяках. А тут человек ворвался без шапки, задыхается — настоящий помешанный. «Этим дуракам только позволь…» — подумал Шулятников, оставляя оранжерею.
— Уезжают, Кирило Григорьич, — шептал старик, забегая вперед.
— Да кто уезжает?
— Ах, боже мой… Неужели вы ничего не знаете?.. Почти вся фабрика собралась… Да вот сами увидите.
— Что-нибудь вы путаете… — пробормотал Шулятников, стараясь сохранить свою неподвижность. — Может быть, какие-нибудь дураки и уезжают — скатертью дорога. А я думал невесть что: пожар, наводнение…
— Нет, вы только посмотрите, Кирило Григорьич.
Они поднялись на балкон, с которого и увидели все.
По улице, мимо заводской конторы и господского дома, медленно двигался громадный обоз. Нагруженные всяким скарбом телеги тянулись одна за другой, как звенья живой цепи. По сторонам шагали мужики, бежали ребята, и за ними едва поспевали голосившие бабы. Этот поезд провожала целая толпа родных и любопытных, увеличивавшаяся с каждым: шагом вперед. Около базара народа набралось столько, что обоз должен был остановиться.
— Что же это такое? — шепотом спрашивал Утяков. — Переселение народов…
Шулятников наблюдал происходившее в бинокль и, передавая его Утякову, проговорил:
— Обратите внимание на третий воз…
— Батюшки, да ведь это Корляков?!. — изумился Утяков. — Стоит на коленях… снял шапку и раскланивается на все четыре стороны.
— Куда же они едут? — спрашивал Шулятников.
— А кто куда: на железную дорогу, на золотые промыслы…
Это еще первая партия, а за ней двинутся другие.
— Ага!.. Что же, скатертью дорога.
С улицы доносился глухой гул шагов, причитания баб и сдержанный говор сгруживавшейся толпы. Утяков смотрел то в сторону базара, то на Шулятникова и начал волноваться все сильнее.
— Кирило Григорьич…
— Ах, будет вам… Что еще?..
— Да ведь это лее невозможно, Кирило Григорьич… Ежели народ разбежится, так что же останется? Значит, уж невтерпеж, ежели все бросили: и дома и всякое заведение. Надо бы ослабить, чтобы хоть остальные не ушли…
— Не могу, Спиридон Дмитрич… А рабочих мы найдем, не беспокойтесь.
— Таких рабочих, как наши максунские, — нет, уж извините, Кирило Григорьич. Умный вы человек, и рука у вас твердая, а вот главного-то вы и не можете понять: ведь это сила уходит…
Все равно, что кровь отворить.
— Пустяки… Вы знаете мой принцип; сказал — и свято.
Старый крепостной управитель даже отступился от своего идола — ведь это был чужой человек на заводах, которому все трын-трава. Сегодня здесь, а завтра за тридевять земель. Если крепостные управляющие и зверствовали, но они не разгоняли народ… Надо иге войти и в их положение, вот этих самых рабочих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
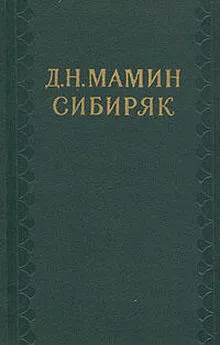
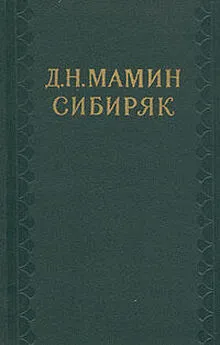
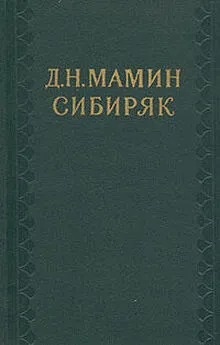
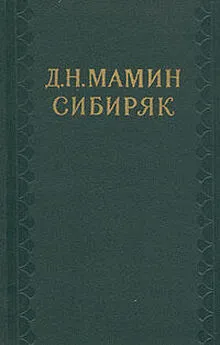
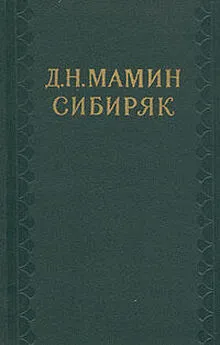
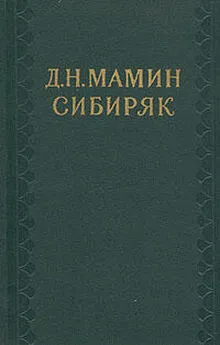
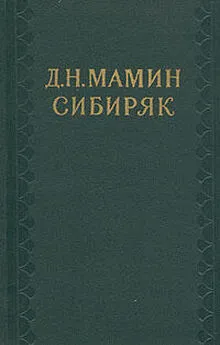
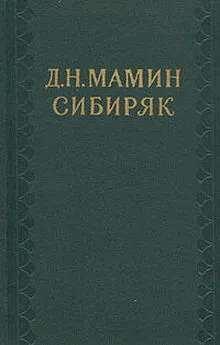
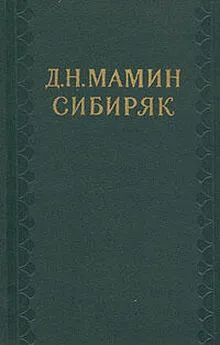
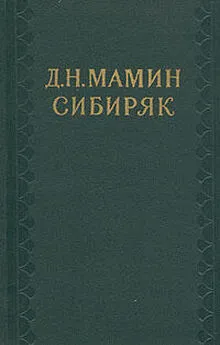
![Дмитрий Мамин-Сибиряк - Живая вода [Рассказы]](/books/1061784/dmitrij-mamin-sibiryak-zhivaya-voda-rasskazy.webp)