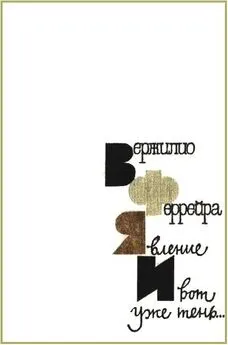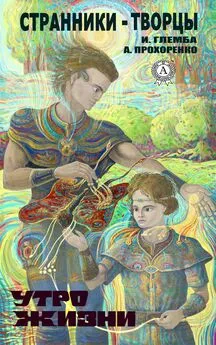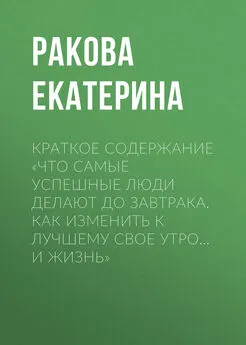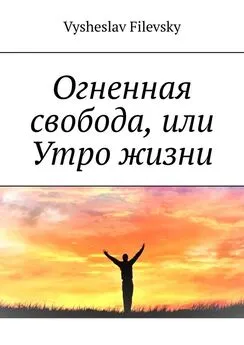Вержилио Феррейра - Утраченное утро жизни
- Название:Утраченное утро жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр книги Рудомино
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00087-021-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вержилио Феррейра - Утраченное утро жизни краткое содержание
В автобиографической повести «Утраченное утро жизни» Вержилио Феррейра (1916–1996), в ему одному свойственной манере рассказывает о непростой, подчас опасной жизни семинаристов в католической духовной семинарии, которую он, сын бедняков с северо-востока Португалии, закончил убежденным атеистом.
Утраченное утро жизни - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Это не только тебе. Это всем, — сказал я очень серьезно, помня о своей важной миссии семинариста.
Но стоило мне выпустить из своих рук кулек, как тут же поднялся адский крик, потому что каждый требовал справедливого раздела. И среди этого гама на мою голову, подобно ударам дубинки, обрушилась брань, мешавшаяся с общим шумом. И мать, выбиваясь из сил, начала раздавать направо и налево оплеухи, пока наконец не восстановила порядок. Вот тут-то моему дяде и представилась возможность меня расспросить о жизни в семинарии. И в первую очередь, раз уж я его племянник, узнать, воспользовавшись представившимся случаем, из первых уст, что же говорит священник по-латыни, служа мессу. И я сказал ему, что латынь — это очень трудный язык, в языке шесть падежей, и потому с точностью я не могу сказать, о чем говорится на мессе. Дядя мой, казалось, был удовлетворен ответом на первый вопрос и перешел ко второму, когда все замолчали. Теперь он желал знать, сколько зарабатывает за свой труд святой отец и может ли он когда-нибудь стать моим ризничим. Мой брат Жоаким пошел дальше, его интересовало конкретно:
— Ты ризничий? И ты ничему не учился, чтобы прислуживать на мессе. А только тому, чтобы есть сыр и пить вино из чаши.
— Ну и обман, да за такое надо дать по морде! — излил душу беспросветный голод моего дяди.
Все громко рассмеялись, и даже мать, она, как я почувствовал, вдруг от меня отдалилась. Между тем дядя, выпив последний стакан вина, посмотрел на меня с глубоким состраданием и сказал, тронув самое больное место моей судьбы:
— Но даже с сыром и всем прочим ничего тебе, человече, не светит! Ведь ты даже не сможешь иметь бабу.
— Сейчас же замолчи, галисиец! Не смей ему говорить такие вещи, — запротестовала мать.
Но все снова громко засмеялись, и моя мать тоже. И тут я услышал и многое другое, приправленное ругательствами, которые сыпались на меня, как затрещины. Тогда, отчаявшись, я сказал себе самому: прощайте, родные, — и снова замкнулся в себе. Однако меня не оставляли взгляды каждого, и они подкусывали основание моего трона исподтишка и в открытую, а я истекал кровью от неожиданно вспыхнувшей жажды мести.
— Ну я пойду, — сказал я наконец, вставая.
— Уже уходишь, сын? — спросила, гладя меня по голове, мать.
— Пора. В доме доны Эстефании не знают, что я здесь.
— Тогда с Богом, иди. И не обращай внимания на то, что болтают эти галисийцы, хуже их я еще не видела.
Когда я вышел, на мир опускалась холодная и спокойная ночь, и снизошедший на меня новый, влажный от нежности покой, как тишина после плача, мягко окутал мои одинокие шаги. В спокойствии ночи, как в последнем приюте, мне показалось, что каждая часть моего страдающего тела исчезает в воздухе и что моя усталость поднимается высоко, как дым, до высоких звезд и там рассеивается. Вздымавшаяся на востоке гора звала меня своим, только ей присущим голосом и взглядом, который на нас смотрит и видит насквозь. Я шел медленно, шел, опустив голову, весь во власти своего безропотного отчаяния. И чувствовал себя одиноким и опустошенным, без каких-либо воспоминаний о чем бы то ни было. Потому что даже образ моей матери теперь, после взрывов ее хохота отступил куда-то далеко, исчез, как отражение лица в зеркале воды, неожиданно разбитое на тысячи кусочков брошенным в него камнем.
Когда я подходил к дому доны Эстефании, звонили к вечерней молитве, но я не вошел в церковь. А когда шел по двору и собирался открыть дверь, из другой двери вышла Мариазинья — дочь доны Эстефании в сопровождении служанки. Это была единственная девочка в доме. Ей исполнилось десять лет. И хотя формы ее уже круглились, во всем остальном (как я признаю теперь по прошествии стольких лет) она была еще ребенком. Одной из ее детских забав было вопрошать меня, когда же я буду служить мессу. И дона Эстефания, которая никак не хотела лишать такого удовольствия дочь, учила меня отвечать ей исчерпывающе точно, но с нежностью, свойственной цветку лилии, стоявшему на алтаре непорочной девы. И даже придумала точный ответ:
— Если она опять тебя спросит, когда же ты будешь служить мессу, ответь ей: тогда, когда того пожелает наш Господь Бог.
Так я и отвечал ей по меньшей мере раз сто. Она подскакивала ко мне, хлопая в ладоши в коридоре, или бежала в сад, или кричала мне из внутреннего двора, а то и из окна сверху, когда видела меня, еще до поступления в семинарию, катающим коляску с одним из ее братьев. И всякий раз я с жалкой улыбкой отвечал:
— Это будет, когда того захочет Бог.
Но на этот раз, о небо! Я возвращался в дом таким одиноким и таким грустным. Зачем ты обижаешь меня, счастливая девочка? Я слышу твой вопрос затылком и остаюсь душевно глухим. У меня болит горло, сдавленное железными руками, в животе крутит, в глазах мутнеет. Боже милостивый, ведь я в такой грусти и усталости! Почему же на мою голову еще одно презрение? Под ударом вопроса я резко останавливаюсь. Но молчу. Между тем счастливая девочка продолжает свое издевательское развлечение и, конечно, было бы хорошо, если бы я пустил слюну от умиления… Но, когда я уже открываю дверь, она снова меня атакует. И тут величайшее смятение чувств заставляет меня потерять человеческий облик, опуститься до экскрементов животных, коими покрыты плиты двора… И я неожиданно быстро отвечаю. Злокачественная ярость бешеных собак вошла в мою душу, искусала мою трусость, заставив ее кровоточить. Я повернулся, глаза мои были закрыты, рот и ноздри горели огнем. И, плача от отчаяния в этот бесконечный для меня миг, я, мучающийся адом и галлюцинациями, выкрикнул ей ужасающую непристойность.
И тут же вокруг меня воцарилась абсолютная тишина, сопутствующая катастрофам. Я боялся открыть глаза, увидеть пепел руин. И стоя так оглушенный своим надменным грехом и глядя в землю, ожидал, что небо и земля меня уничтожат и это будет справедливо. Но, поскольку проклятие не свершилось, я вскоре поднял отяжелевшие глаза. И — о чудо! — никого рядом со мной не было, никто меня не слышал, никто.
День за днем уходили каникулы. Пришла Рождественская ночь, геометрически четкая и чистая, как большой черный хрусталь. Подоспел день января, свежий первозданный, пришли волхвы со своими магическими пророчествами. Здесь, в этой пустой комнате, где я пишу эти строки, все вспоминается мне с большим волнением. К испытанной некогда боли примешивается постоянная неизбывная тоска, едва ли связанная с тем или иным конкретным моментом, потому что теперь, когда я оживляю прошлое, все окутывает удивительный ореол. Вспоминая прошлое, я вспоминаю отдельные моменты: бегущий по стеклам окон дождь или то холодное утро в церкви. Но что было конкретно тогда, что тогда меня так взволновало? Вот почему я ворошу свою память той далекой Рождественской ночи, в которую все же, знаю, я страдал от усталости и тоски. Так, чуть ли не с угрызениями совести я слышу неясный зов голосов в нефе церкви и вспоминаю жуткий холод заморозков, сидя около воображаемого мною камина. В далекой белизне для меня снова рождается чистая песнь, рождается и поднимается по долгой кривой неба, подобно солнцу, которое раскрывается веером над тишиной земли. Оцепенение тумана рассеивается в хрустальном пространстве. Вспоминаю горячий ужин в полночь, белый и процеженный холод, который коснулся моего лица, когда я распахнул окно, вспоминаю большой костер из дров упавшего сухого дерева, который высоко вверх поднимался на церковном дворе. Потом память выхватывает отдельные моменты прошлого, пугающие, как внезапное нападение из-за угла. Неожиданно слышу в печальной бесплодности коротких зимних ночей стук деревянных башмаков возвращающихся с полей крестьян, звонко отдающийся от каменных плит церковного двора, или покашливание тех, кто в суровых сумерках встает до рассвета, вспоминаю еще плохо различимые фигуры движущихся людей, остановившихся на обочине дороги, и смотревших на гору, и ведущих немой разговор со временем; вспоминаю тонкую пыль инея на темных дорожках, безмятежную радость чистого утра, летящую к солнцу, и ветры, приходящие с горного хребта, покрытого черным плащом ночи, неожиданно разоряющие деревню. Но вдруг нечто конкретное сменяется нечетким размытым, воспоминания ускользают, и я вновь погружаюсь в ярость одиночества.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: