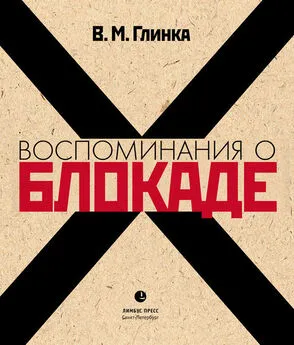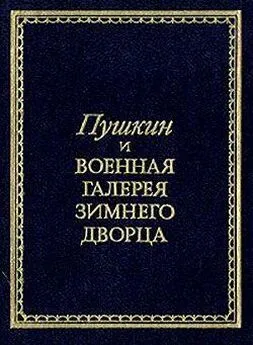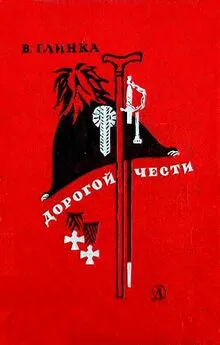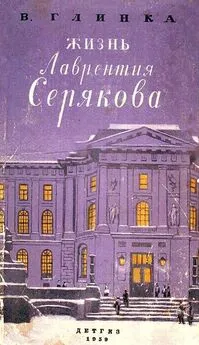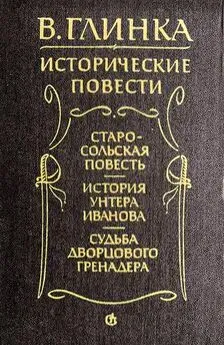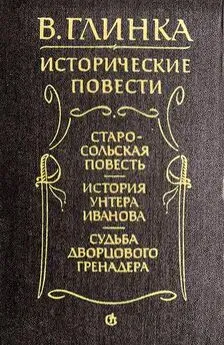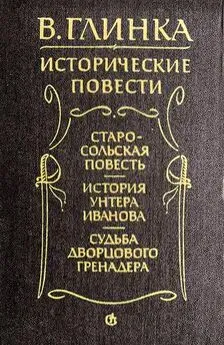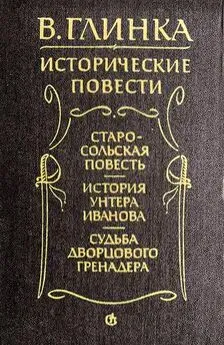Владислав Глинка - Воспоминания о блокаде
- Название:Воспоминания о блокаде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)
- Год:2010
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0599-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Глинка - Воспоминания о блокаде краткое содержание
Рукопись «Воспоминаний о блокаде» была обнаружена наследниками В. М. Глинки после смерти автора при разборе архива. Сцены блокадной жизни, приведенные в книге, не требуют ни объяснений, ни дополнений.
Издание проиллюстрировано уникальными архивными фотографиями.
Воспоминания о блокаде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

Лекция для раненых в госпитале
А когда началась война, то Малышева, ушедшего добровольцем, послали с частью на Карельский перешеек. Потом перебросили под Ленинград, и он побывал в Пулкове, но никого из своих там уже не нашел. И где теперь его жена, где девочки – неизвестно… Солдатское дело – не своя воля… Писал куда-то, пытался узнать, куда эвакуировали, но ответа не получил – блокада.
– А теперь забыли Мадлен? – спросил я.
– Куда там, Михалыч… Как новую войну начали, я все думаю о том, что мы с Францией опять вместе и, может, мы им опять будем помогать… Вы не знаете (он назвал округ в северной Африке) – его заняли немцы?
Этого я не знал. Признаюсь, не знаю и теперь…
Сколько раз через десятки лет вспоминали мы с Александром Ивановичем Раковым тогдашних раненых: Николая Алексеевича Рынина, лесовода, серьезного огородника Малышева, политрука Орлова, выпускавшего стенгазеты на плохой оберточной бумаге. У Александра Ивановича была удивительная память на пациентов, и, будучи врачом по призванию, он помнил все, касавшееся медицинских аспектов каждого из этих людей.
Полтора месяца этой палаты были для меня памятны еще и тем, что за это время в ней никто не умер. Тяжело приходилось двум раненым в легкие, когда ветер задувал в палату дым. Они кашляли и проклинали тех, кто неумело сложил печку. Но на мой вопрос, насколько им вреден этот дым, Александр Иванович ответил, что мороз и даже просто холод для них был бы несравненно вредней. Не говоря уже о том, что их было двое, а остальных – тех, что поправлялись в большой мере благодаря теплу, тридцать восемь.
Полтора месяца – 40 дней – 20 бесед вечерами у печки… О чем же я говорил, кроме военной истории? Очень пригодились мне, если говорить об умении построить лекцию, недавние уроки профессора Рынина и лесовода Ивана Ивановича, да и их рассказы также. Вечерами я мысленно строил сюжет, располагая среди общего повествования казавшиеся мне особенно яркими и убедительными детали. Снова пошли в ход уже «прокатанные» мной в «профессорской» холодной палате рассказы о грозном царствовании Ивана IV, о дворцовых переворотах XVIII века, о несчастном Иоанне Антоновиче и поручике Мировиче, об аракчеевщине и о Грузине с его страшной судьбой, связанной с убийством Настасьи Минкиной…
Не смогу умолчать, что через несколько дней – меня уже не было в палате – умер так долго державшийся Малышев. При мне, помню, он сразу отдавал обслуживающей няньке весь свой паек «чтобы не соблазняться», а тут, видимо, не сумев выдержать диету на своей «муке», – съел полный обед в День Красной армии – и, кажется, в ту же ночь кончился.
16
14 февраля я получил от Марианны Евгеньевны записку о том, что в бомбоубежище Эрмитажа отключили тепло и свет и надо оттуда перебираться на Басков переулок. Перетаскивать пожитки и оборудовать нашу маленькую комнату под жилье женщинам было не под силу. Мне надо было возвращаться. Очень сердечно простился я с новыми друзьями, и они подарили мне на память номер стенгазеты с заметкой о моих беседах. Номер этот я храню вот уже 36 лет как дорогой памятный предмет, напоминающий о людях, большинство из которых снова ушло на фронт. До победы дожили, вероятно, лишь немногие.
Еще раз скажу, что, если бы не покойный мой друг Александр Иванович Раков, не будь этой печки и военного пайка, я наверняка бы не пережил эту зиму. С кусками и кусочками хлеба, которые подарили мне новые друзья и которые я не стеснялся брать, так как шел к тем, кто жил на карточки иждивенцев, я бодро прошел дорогу до Эрмитажа. Падавших на улицах ни разу не увидел, но несколько трупов в одеялах и простынях провезли мимо меня на санях и детских саночках, как узнал позже, в направлении открытого городскими властями морга. Шел и гадал, кого еще недосчитаюсь из близких. Едва поспев поцеловать, казалось, предельно похудевших и плохо видимых мне в полутьме освещенных коптилкой Марианну Евгеньевну и дочку, как я задал этот вопрос. И услышал имя самого близкого друга, моего товарища по университету – Михаила Александровича Шпакова. И буквально не поспел еще духу перевести от этой вести, как подошла опухшая от слез жена Крутикова Лидия Сергеевна Пискунова. Мы обнялись, и она сказала, глотая рыдания:
– Некого об этом просить… Если еще можете, то помогите вынести в гараж тело Миши. Он умер сегодня…
Так через минуту после прихода я уже нес носилки, на которых передо мной лежало тело Михаила Захаровича. Этот хоть умер неожиданно. В это утро встал, побрился, оделся, как всегда очень тщательно – чистый воротничок, галстук, брюки со складкой, даже коричневые гетры в цвет костюма на чищеных ботинках. И вдруг прилег на топчан и без стона, без слова кончился. Смерть приходила тогда во всех видах – и в долгих муках голода, и вот так – разом, от остановки сердца. Накануне Михаил Захарович увязывал бечевкой сделанную в Эрмитажной мастерской железную печку-буржуйку, укладывал чемоданы и портпледы – собирался в тот же день, что и мы, перебираться на свою квартиру. Может быть, от этого труда и надорвался. Когда мы несли его тело, то из одного полутемного угла убежища услышали рыдания. Потом узнали, что только что скончалась мать нашей сотрудницы – Тани Эристовой…
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЭРИСТОВА (1905 – после 1980-го), сотрудник Эрмитажа, близкий друг Владислава Михайловича и Марианны Евгеньевны Глинок. В служебной анкете Т. Н. Эристовой, хранящейся в архиве Эрмитажа, мать Татьяны Николаевны – Анна Доримедонтовна Чижова обозначена, как домохозяйка. В точном значении этого слова запись верна, Анна Доримедонтовна действительно была хозяйкой, владелицей дома, при этом одного из лучших домов на самой аристократической улице Петербурга – Сергиевской (теперь ул. Чайковского, 40).
Отцом Т. Н. был НИКОЛАЙ КЛАВДИЕВИЧ ЧИЖОВ (1865–1935), архитектор, профессор Института гражданских инженеров, автор первого проекта канализации Петербурга (1916) и председатель Комиссии по канализации и водоснабжению Петербурга. Архитектором был и дед (отец матери) Татьяны Николаевны – Доримедонт Доримедонтович Соколов (1837–1896), профессор архитектуры, директор Института гражданских инженеров, который построил множество зданий в Петербурге, Москве и в провинции.
В гимназию на Греческий проспект Таню возили на пони. Когда Танина мать в бомбоубежище Эрмитажа стала пухнуть от голода, она вспоминала, на каких приемах бывала в молодости. Перед смертью (февраль 1942 года) Анна Доримедонтовна потеряла рассудок и, забыв русский язык, говорила по-итальянски. Понимал ее лишь кто-то из Отдела западной живописи, случайно оказавшийся рядом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: