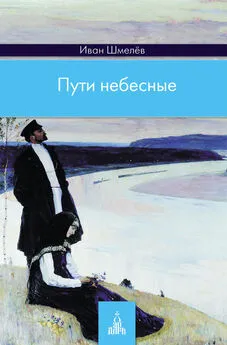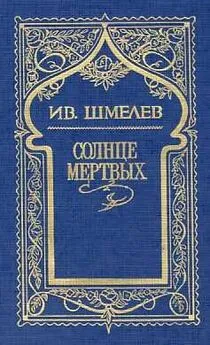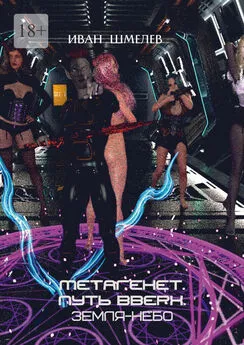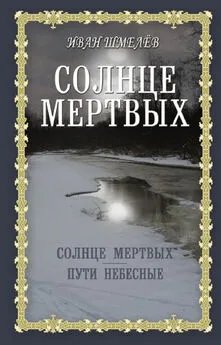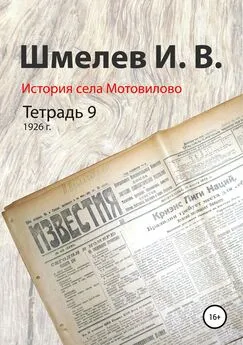Иван Шмелев - Пути небесные
- Название:Пути небесные
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Белый город
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-485-00161-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Шмелев - Пути небесные краткое содержание
В центре повествования – судьбы неверующего интеллигента Виктора Вейденгаммера и глубоко верующей, кроткой и внутренне сильной Дариньки Королевой. Встреча с Даринькой открывает перед Виктором новый, незнакомый ему мир, а ее любовь и глубокая вера помогают ему пройти трудный, полный сомнений, путь прозрения, «путь из тьмы к свету».
Пути небесные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Дворянское гнездо» наполняют и другие характерные приметы идейной атмосферы 1840-х годов (время действия романа): няне приходилось водить Лизу к заутрене «тайком», а церковное воспитание – чтение житий, хождение в храм – оказывалось смесью «запрещенного, странного, святого» [34] Там же. С. 247.
. Это показательные слова: мир благодати, таинств, богослужений, в полном смысле слова мир святости, становился странным и запретным. (Напомним характерный эпизод: мать Тургенева, разгневавшись, отменила пасхальную службу в усадебной церкви.) Совершенно естественно, что в такой атмосфере желание посвятить себя Богу, принять постриг, вызывает однозначную реакцию домашних Лизы: «больна, бредит, надо послать за доктором» [35] Там же. С. 283.
.
Зайдя в церковь, Лаврецкий наблюдает там не «прихожан», не «православных», не «верующих», но опять же «богомольцев ». Кто же они? В памяти всплывают замечательные персонажи «Лета Господня», «Богомолья»; но в тургеневской прозе ассоциации существенно иные. Обратим внимание на кумулятивное нарастание эпитетов: «Дряхлая старушонка в ветхом капоте с капюшоном стояла на коленях подле Лаврецкого и прилежно молилась; ее беззубое, сморщенное, желтое лицо выражало напряженное умиление; красные глаза неотвратимо глядели вверх, на образа иконостаса; костлявая рука беспрестанно выходила из капота и медленно и крепко клала большой широкий крест» [36] Там же. С. 278.
. В церкви, проповедующей, казалось бы, воскресение и жизнь вечную, обретается символ смерти, воплощенной мертвенности: чего стоит жутковатая деталь – медленно появляющаяся из-под капюшона костлявая длань. Даже если отнести это восприятие к герою, нет сомнения, что в нем присутствует доля и собственно авторского.
Диалоги Лаврецкого и Лизы напоминают разговоры Вейденгаммера с Даринькой:
«Лаврецкий начал уверять Лизу, что… он глубоко уважает всякие убеждения; потом он пустился толковать о религии, о ее значении истории человечества, о значении христианства…
– Христианином нужно быть, – заговорила не без некоторого усилия Лиза, – не для того, чтобы познавать небесное… там… земное, а для того, что каждый человек должен умереть» [37] Там же. С. 220.
.
Как и для бывшего студента физико-математического факультета Лаврецкого, так и для инженера Вейденгаммера христианство – некая теория, одна из научных гипотез, объясняющая мир. Оба они далеки от личного исповедания веры, и люди верующие вызывают у них чувство недоумения и любопытства («ваш Бог», – говорит Лаврецкий Лизе). Для Дариньки Королевой, как и Лизы Калитиной, христианство – прежде всего практика, реальный опыт, сама жизнь. Горячее желание обеих – пробудить такую же веру в своих любимых («Лиза втайне надеялась привести его к Богу»), побудить их к покаянию, отмолить их грех.
Путь обретения веры у обеих героинь был недраматичен. Основы истовой религиозности были заложены в них в детстве глубоко церковными воспитательницами.
«Дворянское гнездо »: «Агафья… мерным и ровным голосом рассказывает житие Пречистой Девы, житие отшельников, угодников Божиих, святых мучениц… Агафья и молиться ее выучила. Иногда она будила Лизу рано на заре, торопливо ее одевала и уводила тайком к заутрене…» [38] Там же. С. 247.
«Пути небесные »: «Воспитывала ее тетка, из духовных, водила ее по богомольям, учила только церковному. Даринька знала все молитвы, псалмы, читала тетке Четьи-Минеи».
Молитвенные предстояния Лизы увидены не изнутри, а извне, глазами тетушки Марфы и Лаврецкого, который, как и Вейденгаммер, стремится в церковь лишь для того, чтобы встретить там свою избранницу. («Лиза, как стала, так и не двигалась с места и не шевелилась; по сосредоточенному выражению ее лица можно было догадаться, что она пристально и горячо молилась». – Вейденгаммер «вошел в теплый и полутемный храм, пропитанный душно ладаном… И увидал ее: она горячо молилась, на коленях».)
Но если сокровенная внутренняя жизнь Лизы остается тайной как для других героев, так и для автора («Что-то было в Лизе, куда он проникнуть не мог») [39] Там же. С. 236.
, то все душевные движения Дариньки, ее молитвенные переживания подробнейшим образом описываются на страницах «Путей небесных».
Правда и цельность характера Лизы в том, что ей с детства был присущ монашеский настрой. Ее кредо: «Все в Божьей власти», ее глубокая убежденность: «счастие зависит не от нас, а от Бога»; «она любила одного Бога восторженно, робко, нежно». Историю неудавшейся любви к Лаврецкому она сразу же осознает как наказание.
Характерно, что Лиза уходит в монастырь не из-за банальной «несчастной любви». Главное ее побуждение подлинно христианское: «Я молилась, я просила совета у Бога… Я все знаю, и свои грехи, и чужие, и как папенька богатство наше нажил; я знаю все. Все это отмолить, отмолить надо» [40] Там же. С.241, 272, 248, 271, 283.
.
Лиза остается неким феноменом, привлекательным, но внутренне неблизким как для действующих лиц, так и для автора, который пытался, подчас мучительно, постичь тайну верующей души. Позиция писателя – недоумение, раздумье, очевидная грусть при созерцании судьбы героини, ушедшей от мира. Важными в философии тургеневского романа являются категории «счастье/несчастье», внеположные православному миропониманию. Действие Божественной воли в мире, присутствие Промысла в судьбах героев не актуализируются и даже не подразумеваются. И если в «Дворянском гнезде» человек и мир осмыслены в рамках секулярного сознания, то в «Путях небесных» – православного мировоззрения. Роман Шмелева отличается тем «духовным видением», которого не хватало, по мнению Ильина, Тургеневу [41] Переписка двух Иванов (1947–1950). С. 397.
.
Как ни странно, но характер Лизы не устраивал Шмелева (в свете его художественных задач) именно выдержкой, терпеливостью и глубиной смирения. Определяя Лизу как «овцу», он противопоставлял ей Аглаю Достоевского, которая вся – «пыл, порох, огонь» [42] Там же. С. 163.
. Действительно, в природной натуре Лизы изначально ослаблена страстность, что и помогает ей относительно быстро преодолевать искусительные помыслы. Шмелеву же нужны были натуры яркие, с выраженными контрастными эмоциональными состояниями. Так появилась героиня его романа, подстать страстям которой и сила соблазнов, мучающих ее.
Для понимания специфики художественного метода Шмелева интересно выяснить, какова степень аутентичности героев прототипам, насколько авторский вымысел отошел от реальной основы. Вейденгаммер – единственный персонаж, о котором сохранились некоторые документальные сведения. Источники достаточно подробно освещают монашеский, оптинский период жизни Виктора Алексеевича и его кончину. Что касается Дариньки, то, как писал Шмелев, он творил Дариньку «почти из ничего», это редкий в его творчестве случай, когда персонаж в значительной степени сконструирован автором. Конкретных сведений о ней, вероятно, у Шмелева было немного. Интереснейшие и поучительные судьбы реальных Вейденгаммера и Дарьи Королевой изложены в отдельной статье – приложении к настоящей книге.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: