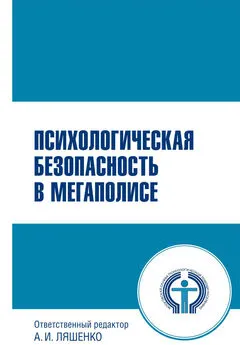Коллектив авторов - Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории
- Название:Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-201-02231-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории краткое содержание
Для психологов, философов, социологов, педагогов и студентов.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мнению Франка, подлинное познание человеческой души возможно лишь на пути соединения «религиозной интуиции» (которая позволяет «опытно переживать» душу) и научного или отвлеченного знания (являющегося единственной формой «общедоступной и общеобязательной объективности»). При этом особенно подчеркивается возможность опытного познания души как некоторой целостной, единой сущности, а не только как множества отдельных душевных явлений (такую точку зрения русский ученый называет психической атомистикой) или лишь как проявлений этой души, а не ее сущности. В понятие «душа» он вкладывал лишь представление об «общей природе душевной жизни» вне зависимости от того, как мы ее мыслим.
Соответственно выстраивается им и теоретико-методологическая платформа «философской психологии». Ее задачами являются: познание не отдельных, единичных, обособленных душевных явлений, а природы «души»; определение места «души» в общей системе понятий, ее отношений к другим областям бытия. В качестве основного метода определяется метод самонаблюдения, под которым понимается «имманентное уяснение самосознающейся внутренней жизни субъекта в ее родовой… сущности» [там же, с. 29]. При такой трактовке базовых оснований философская психология отличается от конкретных, в т. ч. естественных наук, а равно и от дисциплин, занятых познанием «царства Логоса или идеального бытия» (логика, этика, эстетика, религиозная философия и т. д. [там же, с. 30], поскольку имеет целью не богопознание или миропознание, а познание бытия, раскрывающегося в самопознании. Объектом же философской психологии является человек как «конкретный носитель реальности» [там же, с. 29]. В другом месте Франк уточняет собственное понимание душевной жизни, снова подчеркивая ее целостность: «Наша душевная жизнь есть не механическая мозаика из каких-то душевных камешков, называемых ощущениями, представлениями и т. п., не сгребенная кем-то куча душевных песчинок, а некоторое единство, нечто первично-сплошное и целое, так что, когда мы употребляем слово «я», этому слову соответствует не какое-то туманное и произвольное понятие, а явно сознаваемый (хотя и трудно определимый) факт [там же, с. 17].
Франк признает душевную жизнь как особый мир не сводимый лишь к материально-предметному бытию, отграниченный и независимый от предметного мира и имеющий собственные условия жизни, «бессмысленные и невозможные в другом плане бытия, но единственно естественные и реальные в нем самом» [там же, с. 55–56].
Основными чертами душевной жизни признаются:
1. Непротяженность ее или точнее непространственность, т. к. для образов как элементов душевной жизни протяженность есть не форма их бытия, а лишь «простое бесформенное, непосредственное и неопределимое внутреннее качество» [там же, с. 95].
2. Невременность душевной жизни. Поскольку область психического есть «область переживания, непосредственно субъективного бытия» [там же, с. 90], то по своей сути, переживание лишено измеримой длительности, не локализовано во времени. И лишь когда человек начинает мыслить переживание, заменяя его «невыразимую непосредственную природу его изображением в предметном мире» [там же, с. 96] можно вести речь об определении времени переживания.
Соответственно, эти две черты душевной жизни обусловливают одно из основных ее отличий от предметного мира – «неизмеримость».
3. «Сплошность, слитность, бесформенность единства» душевной жизни [там же, с. 96]. Душевная жизнь не является ни определенным множеством, ни определенным единством. Она есть лишь «материал, предназначенный и способный стать как подлинным единством, так и подлинною множественностью, но именно только бесформенный материал для того и другого» [там же, с. 98].
4. Неограниченность душевной жизни, отсутствие ограниченного и определенного ее объема: «она не имеет границ не потому, что объемлет бесконечность, а потому, что положительное ее содержание в своих крайних частях каким-то неуловимым образом «сходит на нет» не имея каких-либо границ и очертаний» [там же, с. 102].
Что касается описания конкретной душевной жизни, реализующейся в конкретном «я», то Франк выделяет три аспекта рассмотрения «глубокой, первичной инстанции в нас, которую мы обычно называем по преимуществу нашей «душой» [там же, е. 134]:
– Душа как формирующееся единство, т. е. «как начало действенности или жизни» [там же, с. 165];
– Душа как носитель знания, исходящего из «непостижимых глубин бытия», и концентрирующегося в индивидуальном сознании [там же, с. 190];
– Душа как единство духовной жизни (т. е. объективной и субъективной сторон душевной жизни), которая выступает как форма и стадия сознания.
Другими словами, здесь намечена как бы эволюция внутренней жизни человека, когда от чистой душевной жизни как самого низшего состояния (где нет ни субъекта, ни объекта, нет различения между «я» и «не-я», а есть лишь чистая и универсальная потенция, бесформенная общность душевной стихии), через выделение содержаний предметного сознания из душевной жизни и образование противостоящего ему мира – «личного самосознания индивидуально-единичного «я» (состояние самосознания) [там же, с. 218] происходит восхождение к высшему состоянию духовной жизни, где противостояние субъекта и объекта, «я» и «не-я», внутреннего и внешнего бытия существенно видоизменяется (по сравнению с предыдущим состоянием). В частности, «я» сознает себя «лишь частным излучением абсолютного единства жизни и духа, возвышающегося и над противоположностью между субъектом и объектом, и над противоположностью между разными субъектами» [там же, с. 129]. Тем самым, на последней ступени происходит, как бы, актуализация, осуществление того «зародышевого состояния», своеобразие которого было в чистой душевной жизни» [там же].
По сути, в своей «философской психологии», обобщая многие идеи своего времени (Джемса, Бергсона) и опираясь на исходные положения русской религиозно-философской мысли, ученый предложил программу «новой психологии», которая, по его мнению, являлась выходом из противоположности материалистически и идеалистически ориентированных психологических систем. И в этом смысле, конечная задача духовной психологии – создание благоприятной почвы для «истинного направления науки о духе», подразумевающего ситуацию «когда мы будем иметь вместо психологии человека-животного психологию человека – образа божьего» [там же, с. 439], по нашему мнению, была реализована Франком, хотя он ни в одной строке своей работы не упоминает Бога.
Говоря о духовной психологии в России начала XX века как самостоятельном направлении психологической мысли, мы имели в виду не только наличие оригинальных концепций или теоретических построений, но и ее организационное оформление. Например, существовавшее Санкт-Петербургское Философское общество в значительной мере пропагандировало именно работы этого направления, хотя его двери был открыты и для представителей других подходов. Более того, духовные Академии также служили своеобразной школой, в рамках которой апробировались религиозно-психологические идеи. Так, многие выпускники академий писали работы на получение степени кандидата или магистра богословия по психологической тематике. Например, в Санкт-Петербургской академии в 1894 г. из 42 выпускников 10 писали работы по психолого-философской проблематике [35, с. 361]. Более того, здесь существовало студенческое психологическое общество, председателем которого был В.Серебренников, экстраординарный профессор по кафедре психологии академии. В его работе участвовало более 70 человек и в год оно проводило 10-12 заседаний. О большом внимании, уделяемом деятельности общества, свидетельствует факт посещения его заседаний ректором академии. «Полезная деятельность» общества обратила на себя внимание даже Высокопреосвященного Владыки и по просьбе Серебренникова общество было удостоено архипастырского благословения на дальнейшее существование. Резолюция на документе о деятельности психологического общества гласила: «1903, января 4, Благословляется. М.А.» [36, с. 521]. Необходимо отметить, что духовенство активно участвовало и в собственно научных психологических мероприятиях. Например, членами и гостями 2-го Всероссийского Съезда по педагогической психологии являлись преподаватели из духовных семинарий г. Калуги, СПб, Твери, Саратова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: