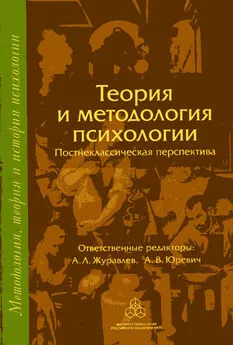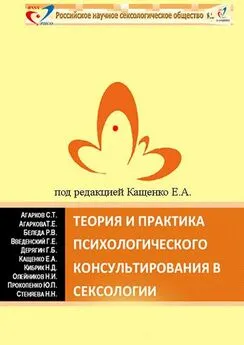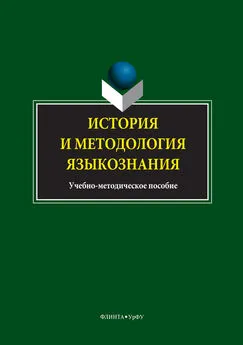Коллектив авторов - Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива
- Название:Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-9270-0093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива краткое содержание
Книга предназначена для психологов, небезразличных к методологическим проблемам психологической науки и практики, а также для представителей смежных наук, интересующихся методологией социогуманитарного познания.
Теория и методология психологии. Постнеклассическая перспектива - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Модернизм, постмодернизм и постпостмодернизм Н.Б. Маньковская относит к «трем китам» неклассической 4 4 Подобно тому, как смешиваются термины «модернистский» и «постмодернистский», зачастую не различаются термины «неклассический» и «постнеклассический». В широком смысле термин «неклассический» означает все, что пришло на смену «классике», но в рамках более детального анализа уместно различать «неклассический» и «постнеклассический» стили. На смену «классике» в начале ХХ в. взрывным образом пришел неклассический стиль, плавно перетекая к концу столетия в постнеклассический. Однако последние не всегда легко разделить, и в культурологии эти различия не так очевидны, как в истории науки. Поэтому в том контексте, где речь идет об искусстве и литературе, термины «неклассический» и «постнеклассический» разведены не так строго, как там, где речь идет о науке. «В одном художнике могут уживаться/чередоваться модернист и постмодернист»,– пишет И.С. Скоропанова (Скоропанова, 2001, с. 59).
эстетики ХХ в. (Маньковская, 2000). В своем культурном выражении постмодернизм представлял собой коллаж и пастиш, поп‐искусство, лас‐вегасовский стиль в архитектуре, неразличение реального и воображаемого. В социокультурном выражении постмодернизм был связан с децентрализацией власти, гетерогенностью жизненных контекстов, переходом к информационному состоянию мира (Kvale, 1994). Согласно В.В. Иванову, смысл авангарда заключался в превращении культуры из «застывшей» в действительно «горячую», в разрушении традиционных классических форм посредством эстетической игры с ними. Важно отметить происшедшую в ХХ в. перемену механизмов культурогенеза : традицию не опровергают, с ней не воюют, но освобождаются от нее, критикуя и переосмысливая. Не «бороться с», а «участвовать в» – кредо авангарда. Логика новой парадигмы подобна логике сфинкса. Авангард и постмодернизм сражались с формальной логикой, со здравым смыслом, причинностью – в частности, средствами «коллаж‐абсурда» (Иванов, 1989).
В философском осмыслении действительности в постмодернистском дискурсе происходило снятие дихотомии внутренней и внешней реальности, критика традиции в форме ее семиотического переосмысления (это «текстовый анализ» Р. Барта, «деконструкция» Ж. Деррида, «семанализ» Ю. Кристевой). Важное место в философском постмодернистском дискурсе занимал также анализ власти знания (Р. Барт, М. Фуко).
С другой стороны, если принцип рационализма и эмпиризма – основных методологических установок европейской культуры – заключался в непосредственном познании (так, эмпиризм стремился опереться на достоверные факты, а рационализм – на «врожденное знание» или рациональные интуиции), то современная методология, как отмечает Н.С. Автономова, все большее внимание начинает уделять именно посредникам (Автономова, 2000). Такими посредниками становятся интеллектуальный стиль, способ рассуждения, письмо, особенности коммуникации. Последние являются предметом исследования немецкого философа Ю. Хабермаса. Иными словами, на передний план выходят сами условия процесса познания, и эта проблематика по принципу взаимодополнительности знания сближает философию с психологической наукой.
Новое мироощущение стояло за духовными течениями ХХ в., такими как футуризм, акмеизм, символизм, дадаизм. За присущей им феноменологией прорисовывался совершенно иной образ мира. Согласно новому взгляду, мир многомерен, многогранен, гетерогенен и мозаичен, и то, каким он нам предстает, зависит прежде всего от фокусировок нашего сознания. События в этом мире не ограничиваются причинно‐следственными детерминистическими связями, но могут быть рассмотрены через связи смысловые, синхронистичные (см.: Азроянц, Харитонов, Шелепин, 1999; Юнг, 1997), энергетические, структурные (см.: Лаврухин, 2001; Харре, 1995). В этой логике мир представляет собой не что иное, как способ описания. Мир рукотворен, мир выстраивается видящим сознанием, но, с другой стороны, мир неопределен и непредсказуем. Мы живем в реальности, где Порядок вечно сражается с Хаосом. Не случайны в ХХ в. ни популярность теории самоорганизации И.Р. Пригожина и соавторов, ни рождение литературного жанра фэнтези, представленного такими авторами, как У. ле Гуин, Р. Желязны, М. Муркок и др. (см.: Young, 1995), ни появление психологических концепций конструкционизма (см.: Бергер, Лукман, 1995; Джерджен, 1995) 5 5 Более того: «Критика Пригожиным не только классической научной картины мира как царства тотального детерминизма и каузальности, связанного с единственной моделью действительности и ее становления во времени, но и квантово‐ релятивистского неклассического естествознания первой половины ХХ в., способствовала выработке представлений о постнеклассическом научном и художественном творчестве как вероятностных системах с низким коэффициентом вероятности, соответствующих современному образу мира как совокупности нелинейных процессов» (Маньковская, 2000, с. 200).
.
Теория самоорганизации И.Р. Пригожина не столько поставила под сомнение существование универсальных законов и механизмов, сколько показала, что они адекватны лишь тогда, когда речь идет о стабильном развитии системы. Но такие моменты редки в реальности, поскольку даже повседневный мир состоит из асимметричных, неопре деленных, неустойчивых процессов, уникальных и неповторимых ситуаций. Системы, с которыми имеют дело ученые за пределами своих лабораторий, являются чаще всего открытыми, характеризующимися состояниями бифуркации и появлением диссипативных структур. Поведение же открытых систем в критических ситуациях невозможно предсказать, поскольку они готовы развиваться в любом направлении (в психическом мире эта открытость возможностям становится обоснованием феномена свободы воли). В критических ситуациях будущее системы зависит от ее индивидуальности, он неповторимых и случайных событий, а не определяется универсальными законами.
И теория самоорганизации, и постмодернизм, и история повседневности 6 6 Об истории повседневности см: Оболенская, 1990; Ястребицкая, 1991.
, – все эти направления ХХ в. подготовили для психологии методологический переворот : смещение интереса от универсальных законов к уникальным событиям, от общих схем исследования – к частному анализу, от «объективизма» – к «культурной аналитике».
Если взглянуть на методологию как на систему «линз», которые мы непроизвольно меняем от эпохи к эпохе (механизм, посредством которого это происходит, описан Т. Куном), то мы обнаружим, что современная европейская мыслительная культура созрела для обретения произвольного контроля над этим процессом, и для ученого становится привычным (благодаря влиянию герменевтики и теорий языка) менять эти «линзы» при работе с разными текстами, добиваясь более продуктивного понимания 7 7 Постижение постмодернизма сродни пониманию восточных культур, требующих для этого построения «функционального органа» видения, произвольного «разворота» сознания. понимание постмодернизма предполагает повышенную рефлексивность, семантическую «бдительность» и некоторое предварительное знакомство с правилами игры. «Постмодернистский текст творит нового читателя – принимающего правила множественности языковых игр, с удовольствием в них участвующего»,пишет И.С. Скоропанова ( Скоропанова, 2001, с. 60).
.
Интервал:
Закладка: