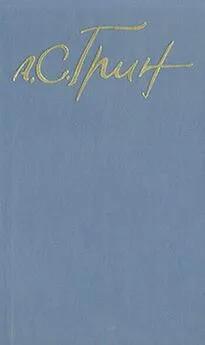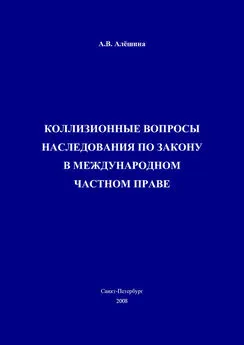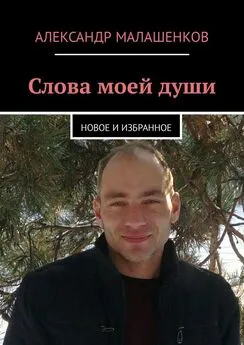Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова
- Название:Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Директмедиа»1db06f2b-6c1b-11e5-921d-0025905a0812
- Год:2014
- Город:Москва-Берлин
- ISBN:978-5-4458-3612-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александра Залевская - Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова краткое содержание
Как мы понимаем друг друга? Какую роль при этом играет слово? Что требуется для того, чтобы слово стало полным смысла, т.е. «живым», помогающим понять и пережить то, на что оно указывает или намекает? Цель этой книги – показать: главное заключается в том, что лежит ЗА СЛОВОМ в личном и социальном опыте (без этого последовательность звуков или графем остаётся «мёртвой»). Интерфейсная теория значения даёт объяснение двойной жизни слова и раскрывает посредническую роль значения в двух позициях: (I) между обществом и личностью; (II) между дискретной языковой единицей и тем, что лежит за словом во внутреннем контексте – голограмме образа мира индивида как результате переработки вербального и невербального опыта познания и общения. Книга полезна широкому кругу читателей, интересующихся вопросами познания мира, общения, взаимопонимания, адаптации к наличной ситуации, овладения языком и т.д.
Что там – за словом? Вопросы интерфейсной теории значения слова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Приведённые и подобные им высказывания дают основания для вывода, что И. А. Бодуэн де Куртенэ, вопервых, разграничивал две ипостаси функционирование языка – индивидуальную и социальную, а вовторых, фокусировался на языке как достоянии индивида; поэтому он, в частности, ставил вопрос о трактовке языкознания как науки, непосредственно связанной и с психологией, и с социологией, и с физиологией, тем самым были намечены основы интегративного подхода к исследованию языковых явлений. В качестве одной из задач семасиологии было названо исследование психического содержания языковых явлений – представлений, связных с языком и движущихся в его формах, но имеющих независимое бытие как отражения «внешнего и внутреннего мира в человеческой душе за пределами языковых форм» 67.
Заметим, что в своё время по поводу концепции Бодуэна де Куртенэ высказывались обвинения в психологизме, который трактовался как «пройденный этап в современном языкознании» 68. Думается, что в данном случае комментарии не требуются: имена строгих критиков и «навешивателей ярлыков» уходят в небытие, а идеи опережающих своё время мыслителей находят соответствующее место в поступательном движении науки, возрождаясь в новых «системах координат».
Николай Вячеславович Крушевский (1851–1887) полагал:
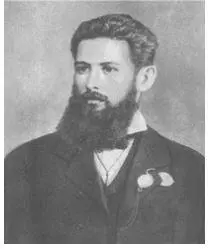
«Язык представляет нечто, стоящее в природе совершенно особняком: сочетание явлений физиолого-акустических, управляемых законами физическими, с явлениями бессознательно-психическими, которые управляются законами совершенно другого порядка» 69.
Крушевский обратил особое внимание на роль ассоциативных процессов в функционировании слов у индивида и в их организации в памяти, что убедительно подтверждается результатами современных экспериментальных исследований 70. В «Очерке науки о языке» (1883) Крушевский рассмотрел специфические особенности языка как достояния индивида и показал множественность связей слова по разным основаниям (по линиям парадигматики и синтагматики):
«… каждое слово связано двоякого рода узами: бесчисленными связями сходства со своими родичами по звукам, структуре или значению и столь же бесчисленными связями смежности с разными своими спутниками во всевозможных фразах; оно всегда член известных гнёзд или систем слов и в то же время член известных рядов слов» 71.
Н. В. Крушевский не только указывает на то, что для носителя языка слово органично слито с представлением об обозначаемой им вещи (вещи в широком смысле, т.е. – о некотором объекте, действии и т.д.); он подчёркивает, что такое представление является целостным, включает все необходимые характеристики соответствующего объекта, действия, состояния, качества (ср. с трактовкой слова как средством доступа к образу мира индивида):
«…вследствие продолжительного употребления, слово соединяется в такую неразрывную пару с представлением о вещи, что становится собственным и полным её знаком, приобретает способность всякий раз возбуждать в нашем уме представление о вещи со всеми и её признаками » 72.
Приведённое высказывание Крушевского прекрасно согласуется, с одной стороны, с учением физиолога И. М. Сеченова о формировании знаковой функции слова (см. об этом ниже), а с другой стороны – с указанием психолога Н. И. Жинкина на то, что человек в естественном общении не разграничивает слово и именуемую им вещь (к этому вопросу мы неоднократно вернёмся).
Особый интерес для нас представляют идеи Льва Владимировича Щербы (1880–1944). В работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» Щерба фактически выделил не три, а четыре аспекта языковых явлений, обосновав роль речевой организации индивида как явления одновременно и психофизиологического, и социального, обусловливающего речевую деятельность и проявляющегося в ней.
Особо подчеркну, что разграничив социальную и индивидуальную ипостаси языка с признанием их постоянного взаимодействия, Щерба неоднократно предостерегал от отождествления таких, по его определению, теоретически несоизмеримых понятий, какими являются языковая система (т.е. словари и грамматики языков, выводимые лингвистами из языкового материла) и речевая организация индивида, которая выступает как индивидуальное проявление языковой системы, но не равно ей. Причины такого отождествления обсуждаются в работах [Залевская 1977; 2005; 2007].

«… вообще все формы слов и все сочетания слов … создаются нами в процессе речи, в результате весьма сложной игры сложного речевого механизма человека в условиях конкретной обстановки данного момента. <���…> этот механизм, эта речевая организация человека никак не может просто равняться сумме речевого опыта … данного индивида, а должна быть какой-то своеобразной переработкой этого опыта. Эта речевая организация … может быть только … психофизиологической… Но само собой разумеется, что сама эта психофизиологическая речевая организация индивида вместе с обусловленной ею речевой деятельностью является социальным продуктом…» 73.
Щерба указал также на недостаточно чёткое отграничение описательной грамматики от грамматики нормативной, которая, по его мнению, неоправданно представляется «в окаменелом виде»; он был убеждён, что ответы на актуальные вопросы языкознания следует искать в самом индивиде, помещённом в те или иные социальные условия 74. Приведённые высказывания представляются достаточными для вывода, что необходимость учёта двойной жизни языка уже давно была осознана рядом учёных. К сожалению, под давлением постулатов структурной лингвистики и вполне в традициях борьбы с «психологизмом в языкознании» российская наука о языке сфокусировалась на исследовании системности и нормативности языковых явлений, их «НАДындивидуальности», ограничившись декларированием необходимости учёта «фактора человека» и заменой некоторых терминов на более современные, что по своей сути остаётся в русле построения описательных моделей языка.
В то же время для разработки модели объяснительного типа необходимо подходить к языку как одному из психических процессов человека. С этих позиций язык не существует без других психических процессов, таких как восприятие, память, мышление, внимание, воображение и т.д., каждый из которых делает свой вклад в формирование и функционирование языковых явлений не ради самих по себе, а в качестве специфических орудий доступа к индивидуальному образу мира для пользования им в процессах познания и общения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: