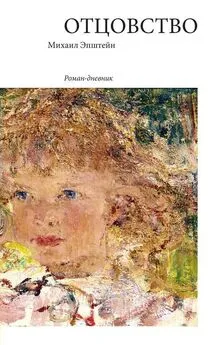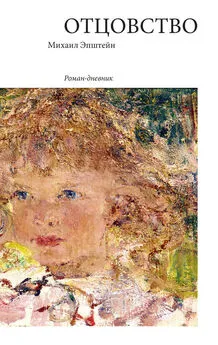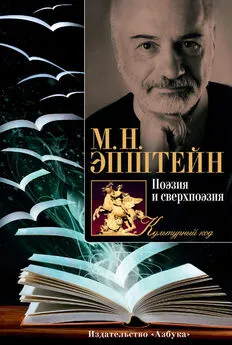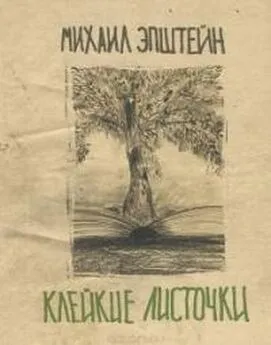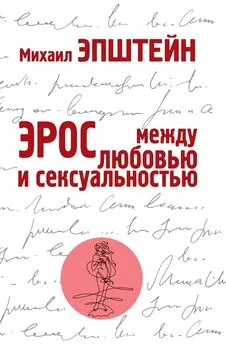Михаил Эпштейн - Отцовство
- Название:Отцовство
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Никея
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91761-305-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Эпштейн - Отцовство краткое содержание
Автор книги «Отцовство» — известный философ и филолог, профессор университетов Дарема (Великобритания) и Эмори (Атланта, США) Михаил Эпштейн. Несмотря на широкий литературный и интеллектуальный контекст, размышления автора обращены не только к любителям философии и психологии, но и ко всем родителям, которые хотели бы глубже осознать свое призвание. Первый год жизни дочери, «дословесный» еще период, постепенное пробуждение самосознания, способности к игре, общению, эмоциям подробно рассматриваются любящим взором отца. Это в своем роде уникальный образец пристального и бережного вслушивания в новую человеческую жизнь, опыт созидания уз любви и рождения подлинной семейной близости.
Отцовство - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
7
Еще одно воспоминание, которое по давности соперничает с первым — то ли чуть раньше, то ли позже, но оба они решительно отстоят от всех других, более поздних и уже ясно относящихся к определенному времени. Это как горизонт, про который нельзя сказать, где он, — очевидно лишь, что он там, за всем, позади всего остального. Так и эти два воспоминания образуют горизонт моего «я», за который я не могу заглянуть.
Поздний вечер, я сплю в своей кроватке и вдруг просыпаюсь. Это папа тихо, крадучись, чтоб меня не разбудить, входит в комнату; а я открываю глаза и гляжу на потолок, по которому бегают светлые полосы от проносящихся под окном автомобилей. Окна нашего пятого этажа выходят на оживленную магистраль, и оттого вся комната днем пронизана гулом города, а ночью — вот эти полосы… Набегая друг на друга, они проносятся по темному потолку, и трудно оторвать глаза от этого непрестанного, завораживающе-однообразного мельканья.
Тут я слышу монотонное позвякивание и прихлебывание и догадываюсь: папа пьет чай, помешивает ложечкой в стакане, отпивает глоток за глотком. Так я лежу, не смыкая век, весь во власти этого двойного ритма — мельканье на потолке, позвякивание за столом, и страшная тоска вдруг охватывает меня. Я словно наперед вижу всю свою жизнь — сплошное чередование полос и звуков. Мне кажется, что я в какой-то стране, где царят вечные мрак и тишь, прерываемые только этими световыми промельками и позвякиванием ложечки. Больше не будет дня и солнца, не будет живого голоса. В детстве мы еще не вполне уверены, что ночь сменится днем, что это закон мироздания, а не чья-то краткосрочная прихоть. И я прихожу в отчаяние от того, что ночь не кончится никогда, а я так и не сумею заснуть и буду вечно смотреть на эти мелькания — мука живого, заброшенного в царство теней. Я лежу, плотно укутанный одеялом, словно не вышедший еще из материнской утробы, и не могу ни родиться — встать с постели, ни умереть — безмятежно заснуть.
Дети, как известно, страшно не любят ложиться спать, каждый вечер учиняют бунт — но разве это потому, что им спать не хочется? Наоборот, они боятся не заснуть. Сон им сладок — ужасна бессонница, тот неизбежный промежуток в переходе ко сну, когда вокруг уже все замерло, а ты еще жив. Вот эта растущая бодрственность сознания, которая разрушает младенческое забытье и затрудняет погружение в сон, — она-то и мучительна.
8
Итак, два первых воспоминания: одно утреннее — просыпаюсь с плачем; другое вечернее — не могу заснуть… Случайно ли, что оба они — на границе дня и ночи, там, где бытие, сплошь и гладко несущееся сквозь время, как бы спотыкается на неровных стыках между явью и сном?
Конечно, не обязательно, чтобы первыми запоминались именно пробуждение или незасыпание. Это вовсе не предмет воспоминания, а его первотолчок: очнуться, прозреть. У меня же так наглядно совпало, что суть воспоминания запечатлелась на тождественном ему предмете: пробудилась память впервые в миг пробуждения, не заснула — в миг незасыпания.
Любое воспоминание включает раздвоение, взгляд на себя со стороны. Днем мы обычно слиты с окружающим миром, ночью погружены в себя. Именно в промежутке между этими двумя состояниями, когда мы не принадлежим полностью ни тому, ни другому, чаще всего возникает отрешенность, невовлеченность. Тогда мы запоминаем и себя, и окружающее: внутреннее, из которого вышли, и внешнее, в которое не успели войти. Воспоминание, по сути своей, это зависание между сном и явью: душа, проснувшись наполовину, оглядывает себя и мир издалека: еще безучастная, но уже начинающая сознавать себя.
Соответственно два рода воспоминаний: резкие, как пробуждение, тягостные, как бессонница, — заполняют все мое детство и даже отрочество. Если вначале они возникали буквально на пересечении ночи и дня, то впоследствии уже не прикреплялись к конкретному времени. Условно их можно разделить на воспоминания «от стыда и страха» и воспоминания «от скуки и тоски». В первых ощутим испуг внезапного пробуждения, выпадения из тьмы на свет; во вторых — тоска неодолимой бессонницы, долгого бездействия во тьме.
Яснее всего мне запомнились в детстве моменты, когда действительность казалась удручающе однообразной, когда я оставался один, среди неподвижных вещей, и ничто вокруг не менялось. Тогда, равнодушный к миру, я мог объективно созерцать его — таким, бесконечно скучным, не дающим увлечься и забыться, он мне и запомнился. Вот, например, в пасмурный зимний день я гуляю один во дворе и от нечего делать втыкаю палку в сугроб — десять, сто, тысячу раз я поразил его насмерть, тоскуя от бедности своей затеи, зато запомнил навсегда.
Иногда же, наоборот, я вел себя резко, вызывающе, вразрез с привычным порядком. И моменты, когда я бывал застигнут врасплох, за недозволенным занятием, тоже запомнились — я как бы видел со стороны свою самость, выпавшую из тьмы на свет, и стыдился ее. Я помню, как на даче подглядывал за игрой взрослых в карты, за их вечерним застольем, затаивался возле дверной щелки или под окном… Даже если я не бывал захвачен на месте преступления, все равно, подглядывая за другими, я подглядывал как бы за самим собой, видел себя их глазами и корежился от стыда.
Часто скука и стыд сопровождали друг друга: помню, например, каким скучным мне казался сосед по коммунальной квартире, дядя Федя, и как мне было стыдно, когда я обозвал его дураком. Помню, как я подбирал и припрятывал монетки и как мне стало стыдно, когда их обнаружили. Именно вокруг этих болевых точек детства и сосредоточиваются воспоминания: в них либо действительность предстает отчужденной от «я», бездушной, унылой, либо самость предстает отчужденной от действительности, дерзкой, постыдной. Тогда-то и начинало работать сознание — как невозможность слияния «я» с миром, болезненный разрыв в непрерывности бытия. Либо скука — равнодушие к жизни, либо стыд — презрение к себе: вот два могучих источника памяти и рефлексии. Потому детство, дошедшее до меня в свете самосознания, освещено так тускло — в серости будней выделяются лишь черные провалы постыдных затей.
9
Но откуда же тогда представление о детстве как о самой яркой, ослепительной поре? Лев Толстой и Сергей Аксаков, Иван Бунин и Владимир Набоков — разве ощущения счастья и веселья, самозабвение, огромность и непосредственность впечатлений, которые преобладают в их воспоминаниях, не составляют сущность детства? Но может быть, их писательский взгляд направлен туда, а не оттуда? Одно дело — глядеть на свет, другое — из света: все кажется темнее. Для взрослых детство — утраченное самозабвение, для детей — приобретаемое самосознание. И когда Бунин пытается взглянуть оттуда, глазами ребенка, у него вырывается скорбный возглас:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: