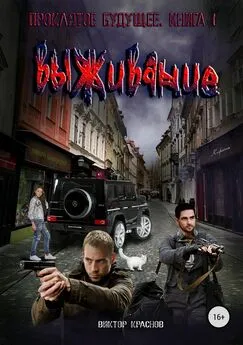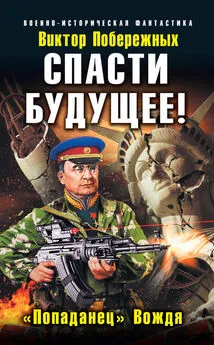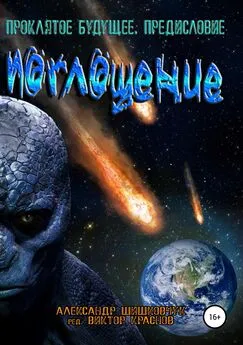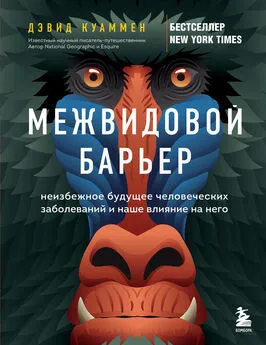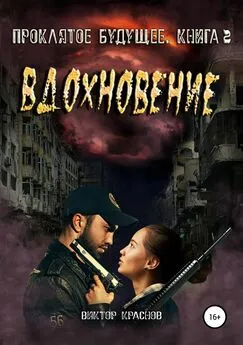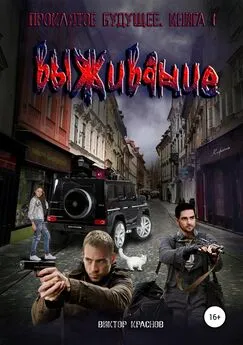Виктор Вилисов - Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей
- Название:Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-17-137036-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Вилисов - Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей краткое содержание
Люди объясняются в любви, но сама любовь остается без объяснения. На месте традиций нарывами возникают вопросы: кому на самом деле нужна семья, почему дружба как бы менее ценна, чем любовь, кто хочет, чтобы горожане были счастливыми, кем определяется счастье, почему любовь считается обязательной для всех и почему сотням миллионов людей отказывается в праве на нее, почему интимности – это личное право каждого и почему это плохо, причем тут устройство города, потоки миграции, фармакология, государственный аппарат, разделение труда, климатический кризис, производство мобильной техники, дроны и коралловые рифы.
В формате a4.pdf сохранен издательский макет.
Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но «быть нормальными» хотят не только белые обеспеченные гомосексуалы, руководящие журналами. Быть нормальными хотят многие женщины, беременеющие до 27, потому что «бездетная женщина это не нормально». Быть нормальными хотят мужчины, отказывающиеся практиковать оральный секс на партнёрках, потому что «мужики не поймут». Быть нормальными хотели те афроамериканцы, которые за счёт не очень тёмной кожи могли сойти за белых и избежать проявлений расизма. Весь мир после пандемии мечтает скорее вернуться back to normal. Разные люди хотят «быть нормальными» в разных условиях, и каждый раз это значит разные, часто взаимоисключающие вещи. Идея о том, что норма социально конструируется и подвержена постоянным изменениям – уже давно общее место, но это не делает растворённое в обществе понятие о нормальности менее живучим – и менее репрессивным. Когда прекаризованные люди не понимают, чем они хотят или могут быть, они хотят быть нормальными. Манифестация нормальности это белый флаг режимам контроля: я безоговорочно соглашаюсь быть (или притворяться) всем тем, чем вы меня видите. У идеи нормальности существует антипод – «ненормальность»; под этим ярлыком режимы власти лишают голоса, ограничивают, исключают и расчеловечивают многие тела, в зависимости от того, что считается «нормальным» в настоящий момент. Но что на самом деле значит быть нормальными, даже контекстуально? Возможно ли это вообще?
Майкл Уорнер в книге The Trouble With Normal [10] M. Warner, The trouble with normal: sex, politics, and the ethics of queer life, 1. Harvard University Press paperback ed. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Press, 2000
пишет: «Причина, по которой вы не найдёте красноречивых цитат о стремлении быть нормальными у Шекспира, в Библии или другом источнике вековой мудрости, заключается в том, что люди не особо заботились тем, чтобы быть нормальными, до появления в 18-м и распространения в 19-м веке статистики». Действительно, у людей до конца 18 века, когда далеко не всем была доступна даже практика нарратива о себе и автобиографическая память, – было мало поводов задумываться о том, нормальны ли они и нормальны ли остальные, просто не было такой категории. Она зарождается с появлением статистики, которая сначала возникает как количественное измерение того, что происходит в государстве, – перечисление земель, оружия и вещей, а затем обращается к телам. В 1877 британский исследователь Фрэнсис Гэльтон, тогда возглавлявший антропологический департамент Британской Ассоциации Развития Науки, подготовил лекцию [11] E. Sera-Shriar, «Peter Cryle and Elizabeth Stephens, Normality: A Critical Genealogy», Social History of Medicine, т. 32, вып. 2, сс. 438–439, май 2019
, где совместил свой рисёрч в антропометрике и фотографии. Сфотографировав несколько разных тел, он сделал композицию из их пересечений, проведя медианы, позволяющие выделить «средние измеряемые черты» человека вообще. Эта работа уже была проявлением обсессии поздних викторианцев поиском «универсального человека», но идея о том, что это вообще нужно и возможно, появилась на полвека раньше. А Фрэнсис Гэльтон через шесть лет после этой лекции придумал название для того, чем он занимался, – евгеника.
Норвежские исследователи Ларс Грю и Арвид Хайберг в работе [12] L. Grue и A. Heiberg, «Notes on the History of Normality – Reflections on the Work of Quetelet and Galton»
об истории нормальности утверждают, что за понятие нормы как императива несёт ответственность бельгийский астроном, математик и статистик Адольф Кетле. В 19 веке математики и статистики во всём, что касалось измерений, исходили из теории ошибки: грубо говоря, любое измерение рискует быть ошибочным в той или иной степени, и чтобы измерить что-либо наиболее точно, нужно провести несколько циклов измерений. Кетле пришло в голову, что эта кривая ошибок применима также и к чертам человеческих тел – рост и вес, например; так появилась база к тому, что через сотню лет станет индексом Кетле, индексом массы тела, который сегодня подвергается обоснованной критике как не адекватный для оценки здоровья или принятия решения о том, «нормально» ли тело или нет. На протяжении многих веков в культуре существовало понятие об «идеальном теле», но оно было вообще недоступно человеку и ассоциировалось с божественным. Когда художники брались изображать идеальное тело богини, они отбирали сразу несколько натурщиц и от каждой заимствовали по самой, как им казалось, красивой и выразительной части тела, как это видно, например, на картине Франсуа-Андре Венсана 1789 года, изображающей греческого художника Зевксиса за работой над изображением Афродиты. Кетле развил свою мысль до того, что – не обязательно существует в природе, но – может быть вычислен на кривой Гаусса некий идеальный «средний» человек; но чтобы его определить, нужно сделать очень много измерений разных людей, посередине между девиаций которых и находится «среднее тело», относительно которого, в свою очередь, следует мерить абнормальности. Это был большой шаг в сторону наделения «нормы» привилегией. Вот чем генерально был озабочен Кетле: «Главное для меня – чтобы правда восторжествовала, чтобы мы увидели, насколько человек – не осознавая того – подчинён божественному закону и с какой регулярностью он его исполняет» – ища норму, он искал подтверждения реализации божественного закона. В то же время французский физиолог Клод Бернар задавался вопросом о норме и называл индивидуальные вариации в человеческом организме «препятствием для медицинского суждения». Ему не приходило в голову рассматривать разные состояния как буквально разные состояния, он хотел доказать, что любая абнормальность это просто количественное отклонение от нормы, – и тогда бы стало понятно, что делать с пациентом: возвращать состояние тела и органов в «норму». Когда врачи пользовались статическими методами Кетле, они рассчитывали на обнаружение скорее природных законов, чем божественных, но идея о том, что «нормальное» равно «здоровое» и «правильное», в 19 веке надёжно осела сначала в медицинской практике, а затем и в повседневности. «Каковы в среднем большинство людей, которых мы сможем измерить, – такими и должны быть люди вообще» – такой сформировался здравый смысл. При этом «средний человек» Кетле был одновременно и физиологически средним, и морально средним. А затем, если коротко, в западных обществах начал укрепляться буржуазный средний класс (la classe moyenne – буквально от l’homme moyen, среднего человека Кетле), и особый тип умеренности, усреднённости ещё больше стал считаться тем, к чему следует стремиться всем вообще.
Как показывают Грю и Хайберг, идея нормы, превращённой в идеал, стала главным двигателем евгенического движения и всех массовых убийств и стерилизаций, проводимых во имя расовой чистоты и сохранения национального здоровья на «должном уровне». К этому моменту идея нормы окончательно слилась с тем, что, как казалось евгеникам, «в идеале было заложено природой». Начав с людей с инвалидностями, режимы контроля стали обмерять по норме людей с альтернативными сексуальными поведениями и образом мыслей. Что – как тогда казалось – практикуется большинством, то и является нормой. Но эта логика, пишет Майкл Уорнер, была неверной с самого начала. Было ошибочно не просто, например, представлять сексуальное поведение группы людей как универсальное для всех, но категории нормы на самом деле не работали даже для самой медицинской науки. В числе прочего потому, что так называемая «биологическая норма» – в большой степени проявление социальной нормы. Философ Жорж Кангилем в книге 1966 года Le Normal et le Pathologique приводит в пример гипогликемию – пониженный уровень сахара в крови; у европейцев этот уровень выше, чем у темнокожих африканцев, – в силу разного рода активностей. И кто, в таком случае, решает, что является нормальным, а что нет? Другой пример – учитывание аллостатической (реагирующей на изменения во внешней среде) природы человеческой биологии, наряду с гомеостатической (как организм функционирует сам по себе): уровень кровяного давления может быть стабильно выше, если человек живёт в условиях нищеты и регулярно подвержен сильному стрессу. К этому добавим все те открытия биологии касательно генетических вариаций в телах живых организмов, которые не были доступны основателям статистики в 19 веке. Арман Лерой в книге Mutants: On the form varieties and errors of the human body пишет, что не существует идеального или «нормального» генома; выяснять, кто из нас мутант, а кто нет, – не имеет смысла, так как мы все мутанты. Выяснять, какие вариации генов лучше, чем другие, тоже не имеет смысла, потому что возникает вопрос «лучше для чего?» Для репродуктивности, функциональности? А что это значит в каждых конкретных условиях? И здесь стоит обратить внимание, что на протяжении 18 и 19 (да и 20, да и сейчас) веков «нормальное» тело – физически, психически, интеллектуально – понималось в первую очередь как тело, способное работать. Не тело, способное отдыхать, или любить, или реализовывать сексуальность, или заботиться, или радоваться, – а тело, способное выполнять работу. Сегодня, когда человек берёт больничный, это, в первую очередь, свидетельство временной невозможности выполнять работу, а не того, что он заболел или нуждается в отдыхе или лечении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
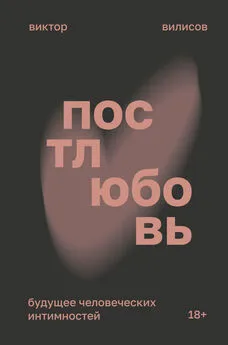
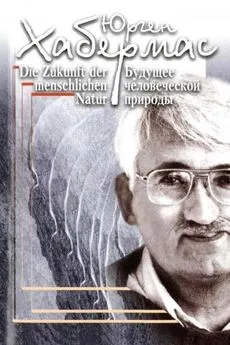
![Виктор Вилисов - Нас всех тошнит [Как театр стал современным, а мы этого не заметили] [litres]](/books/1068564/viktor-vilisov-nas-vseh-toshnit-kak-teatr-stal-sov.webp)