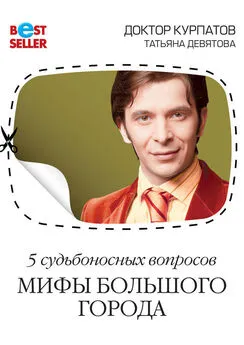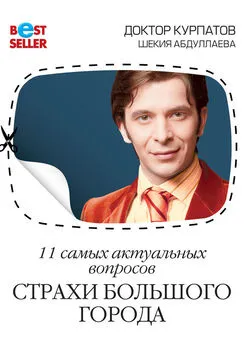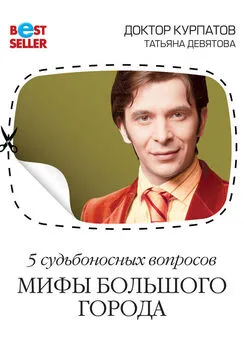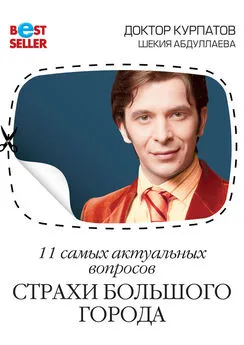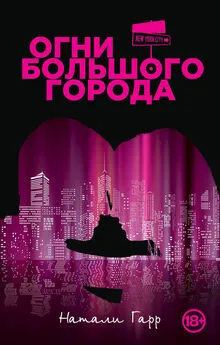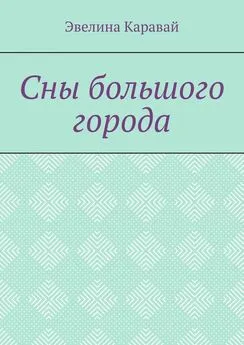Татьяна Девятова - 5 наболевших вопросов. Психология большого города
- Название:5 наболевших вопросов. Психология большого города
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Девятова - 5 наболевших вопросов. Психология большого города краткое содержание
Нам довелось жить в эпоху перемен. Впрочем, назвать это жизнью даже как-то язык не поворачивается… Постоянный стресс, утрата ориентиров, крушение кумиров и прочее, и прочее, и прочее. Кардинальным образом изменились наши представления о жизни, и автоматически изменились мы сами. Какова наша психология «на сейчас»? Чувство одиночества, конфликт поколений, современная «ячейка общества», психология счастья и психологическая культура – об этом и о многом другом беседуют доктор Курпатов и Татьяна Девятова, продолжая разговор, начатый ими в «Мифах большого города».
5 наболевших вопросов. Психология большого города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот за что я иногда не люблю психологов – так это за их научный цинизм. Любят они потоптать ногами хрупкие цветы романтики и вместо возвышенного сюжета «из Шекспира» предложить передачу «В мире животных». Правда, они же утверждают, что если какая-то мысль вас «зацепила» – это верный знак: наблюдение попало в точку. Самое, конечно, неприятное в этой истории – то, что они правы.
– Другое объяснение, возможно, более здравое, принадлежит моему любимому Конраду Лоренцу, который анализирует работу инстинкта внутривидовой агрессии и буквально на пальцах показывает, что отношения между поколениями просто не могут быть идеальными. Птицы заклевывают своих детенышей до смерти, если те вдруг решаются остаться в родительском гнезде, преодолев определенный возрастной рубеж. Примерно то же самое происходит и среди большего числа животных видов (за исключением тех, что живут большими группами). Как показывает Лоренц, без внутривидовой агрессии, то есть перманентного конфликта внутри одного вида, выживание этого вида оказывается под угрозой. Животные должны конфликтовать и расселяться, осваивая новые территории и ареалы обитания, только это гарантирует виду выживание. То есть родители, выдворяющие детей из своей жизни, решают важную эволюционную задачу. Понятно, что подобная политика со стороны родителей не может происходить без конфликта между поколениями.
Если же мы спроецируем эти выводы Лоренца, сделанные при анализе поведения животных, на жизнь людей, то можем сказать следующее: да, чтобы убивать друг друга физически (родители – детей, а дети – родителей) – до этого, как правило, не доходит (хотя «квартирный вопрос» – сами знаете…), но убивать ментальное пространство соседних поколений – это пожалуйста, в каждой семье происходит. Мысль – это ведь тоже своего рода форма жизни (она движется, действует, размножается даже). И тут конфликт территориальный возникает не на шутку – чье мнение победит, чья позиция возобладает? Мировоззрение родителей в одной ситуации сформировалось, мировоззрение детей – в другой. А бытие, как говорил классик, определяет сознание. И потому они разные и конфликтуют поэтому. И соответственно, поколения бьются друг с другом насмерть на идеологическом фронте: борются за победу своего мнения, пытаются отстоять, так сказать, свою правоту и заодно интеллектуальную функцию.
В общем, тут на биологическую конструкцию наслаивается историческая. А иногда и перенаслаивается. Это случается как раз в переломные эпохи, когда время как бы обгоняет естественную смену поколений. В результате конфликтуют уже не родители и дети, а личности, сформировавшиеся в принципиально отличных друг от друга исторических условиях. Фактически, по крайней мере в ментальной сфере, поколений оказывается больше, чем должно было бы быть по биологическим меркам. И сейчас мы имеем возможность наблюдать именно такой случай – у нас «исторических поколений» больше, чем «биологических»…
– И сколько же их – этих внеплановых поколений – у нас в итоге получилось?
– Хотите наперечет?
– Было бы неплохо…
– Это вы меня на высшую математику сподвигаете, Татьяна. Ну попробуем…
Во-первых, в России еще, к нашему великому счастью, живет поколение людей, которые прошли войну или, по крайней мере, хорошо ее помнят. И «к счастью» – это здесь не случайная оговорка. К счастью, потому как эти люди, как никто другой, самим фактом своего присутствия в социальном пространстве обеспечивают так называемую «историческую память» нации.
Мы едины пока только потому, что живы ветераны, которые связывают нынешнюю российскую неразбериху и суету с величайшим знаковым событием уходящей, почти уже ушедшей эпохи – победой в Великой Отечественной войне. Как только эта война окончательно станет для нас фактом из учебника и среди нас больше не будет носителей этого знания, этого опыта, очевидцев и участников тех событий, мы окончательно отшвартуемся и уйдем в открытое море, где нет ничего – ни ориентиров, ни оснований. Только на себя придется рассчитывать. Но мои бабушки и дедушки – ветераны Великой Отечественной – уже умерли. Так что…
Поколение довоенного и военного времени – люди, пережившие войну, которые впитали в себя удивительную, непонятную нам способность к реальной, полной самоотверженности. Своего рода вынужденный, приобретенный, подсознательный стоицизм. Они у нас самые настоящие стоики – героическое поколение, которое полностью отказалось от себя, от примата личных благ, личных удовольствий, если хотите. Они принесли в жертву государству, системе свои индивидуальные, человеческие помыслы и желания. Почему так сложилось? Много факторов, я думаю. Не последнюю роль сыграла и система тоталитарного управления, подсознательный страх перед силой властной машины. Но в большей степени, конечно, тут другая причина – они постоянно решали какие-то задачи, которые были «сверх» них, надличностные: создать страну, защитить страну, а затем восстановить ее.
При этом о чем мечтал каждый из этих людей в отдельности – они и сами-то толком не знали. Не позволяли себе в этом направлении думать. Они готовы были жертвовать, жили в состоянии этой готовности. И эта их жертвенность трансформировалась сейчас в то базовое требование, которое они предъявляют ко всем следующим поколениям: «Вы должны научиться отказывать себе в удовольствиях!» Таков главный тезис, который исходит от этого поколения. И его представители смотрят на все последующие поколения и не любят, не могут принять в них именно это – то, что личное для их детей и внуков стало выше общественного.
Они не понимают, о каком вообще таком удовольствии для себя, любимого, может идти речь. Есть некая зона комфорта – и ладно, и достаточно. Вот достался блокаднику дополнительный паек – и то счастье, спасибо большое. Это зона, с позволения сказать, «комфорта», которая располагается в пространстве отсутствия вообще какого-либо удовольствия. И поэтому поколение, о котором мы ведем речь, никогда не поймет, что значит получать удовольствие от жизни, что значит «делать СВОЮ жизнь». У этих замечательных людей просто нет такого жизненного опыта, они не ощущают своего права на удовольствие. Удовольствие, которое они могли себе позволить, – это делать что-нибудь для своей семьи, своего предприятия, своей страны.
Причем надо заметить, что и само понятие «семья» тогда было другим, «семья» включала в себя не просто три-четыре поколения отцов и детей, к ней относились и семьи сестер и братьев – а рожали тогда куда более активно, чем сейчас, – и семьи их детей и внуков. У моей бабушки было три сестры и три брата, у дедушки – брат и сестра, у всех – дети, тоже уже с зятьями, невестками и собственными детьми. Жили все в разных городах и селах, и почти каждый месяц у кого-то что-то случалось – свадьба, похороны, болезнь, финансовые трудности, ремонт, переезд… И вся многочисленная родня тут же бросалась на выручку. А знаете, только сейчас начинаю это осознавать так ясно: это ведь была очень счастливая суета, хоть и в виде такой семейной повинности, якобы вынужденной и связанной порой не с самыми приятными событиями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: