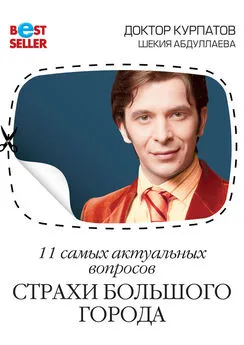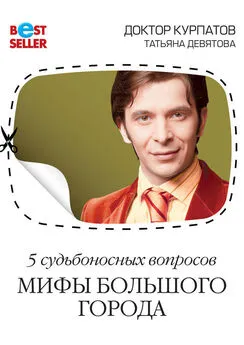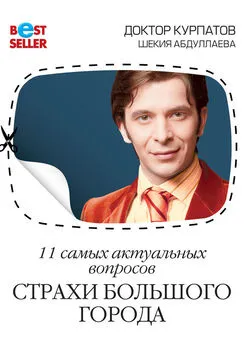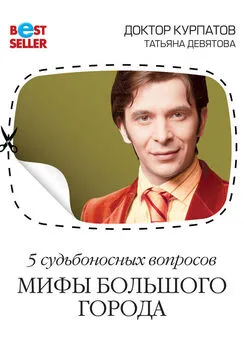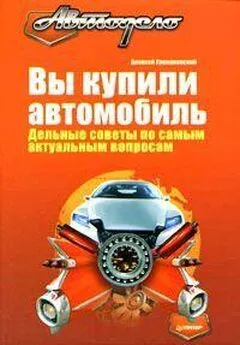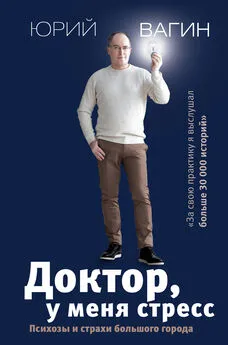Шекия Абдуллаева - 11 самых актуальных вопросов. Страхи большого города
- Название:11 самых актуальных вопросов. Страхи большого города
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Авторское
- Год:2013
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шекия Абдуллаева - 11 самых актуальных вопросов. Страхи большого города краткое содержание
Вдумчивая и внимательная журналистка на правах друга расспрашивает доктора Курпатова о… страхах.
Что беспокоит городского жителя? Страх нападения, ограбления. Страх столкнуться с грубостью и хамством. Страх допустить профессиональную ошибку и встретиться с непрофессионализмом врача. Страх попасть в аварию, а того хуже – в авиакатастрофу. Страх за родных и близких. И множество других страхов… Страх смерти, в конце концов!
«Страхи большого города» – настольное пособие для горожанина.
Об этом доктор Курпатов еще никогда не рассказывал!
11 самых актуальных вопросов. Страхи большого города - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Вряд ли эти пациенты способны судить об эффективности лечения, назначенного врачом, просто потому, что у нас не заставить людей принимать лекарства. В моей книге «Психология сердца», адресованной врачам, есть специальный раздел, где я рассказываю коллегам, как нужно рассказывать о препарате, строить фразы и уговаривать людей, страдающих гипертонией, принимать гипотензивные препараты, которые им жизненно необходимы. Очень трогательно, правда? При этом сердечно-сосудистые заболевания, инфаркты, инсульты стоят на первом месте среди причин смертности. А ты говоришь – хотят полноценно жить.
У нас думают – «врачи плохо лечат», потому что ждут немедленного и чудесного излечения. Выпили таблетку – не помогло, значит, плохая таблетка! А то, что эта таблетка начинает действовать только на третьей неделе применения, потому что просто механизм у нее такой, это больному невдомек. Так что, это не врачи плохо лечат, а просто каждое заболевание лечится в свои сроки и таким-то образом. Зачастую долго. Конечно! А мы как реагируем? Ну ладно, попью недельку таблетки, а там видно будет… Современные антидепрессанты надо пить полгода. Это минимум. Когда я уговариваю пациента принимать лекарства, я, как правило, не говорю ему, что курс лечения будет длиться шесть месяцев, потому что он просто не станет их принимать, даже при условии, что ему это жизненно необходимо. Поэтому сначала я говорю, что будем принимать препараты месяц, а потом каждый следующий месяц как с ребенком – «за папу, за маму, за бабушку, за дедушку».
К сожалению, многие врачи не умеют правильно общаться с пациентами или не считают необходимым это делать, не объясняют им значимые вещи, полагая, видимо, что если им самим все понятно, то о чем тут говорить? Результат подобной врачебной небрежности бывает весьма печальным. Приведу пример.
Обычный невротический страх развивается следующим образом: человек испытывает серьезные внутренние конфликты, переживает, находится в напряжении и тревоге. И когда у него вдруг что-то «стреляет» под лопаткой, вся его тревога концентрируется именно в этом месте. Он впадает в ужас и панику, бросается за помощью, начинает обследоваться. Врачи ничего не находят или находят, но говорят об этом совершенно непонятно. Пациент дрожит от страха: у него же болит, а ничего не нашли или сказали что-то, что он воспринял как нечто чрезвычайно опасное: «У вас диэнцефальный синдром», например. Такой диагноз не угрожает абсолютно никакими последствиями и используется врачами, чтобы отвязаться от навязчивых больных. Но больной об этом, разумеется, не знает. Страшное слово – «диэнцефальный» – преследует его, как всадники Саурона хоббитов. Наш герой начинает маниакально следить за своим здоровьем: он уже чувствует боль в другом боку, ему кажется, что кал и моча поменяли цвет и запах. Он ходит по врачам, но все, что ему назначают, не оказывает положительного эффекта, что, в общем-то, и не странно, потому что проблема нашего героя не имеет ровным счетом никакого отношения к органической патологии. Он же в ужасе прислушивается к каждому еканию в своем организме, и у него нет никаких сомнений, что это рак. Впрочем, по странному стечению обстоятельств, от этого «рака» ему хорошо помогают транквилизаторы, назначенные между делом каким-нибудь старым, видавшим виды участковым терапевтом. Кто бы объяснил, почему?
В книге «Психология сердца» я пишу: «Дорогой врач, когда к вам обращается пациент с хроническим заболеванием, которое требует долгого и непростого лечения, а также изменения всего образа жизни больного, вы сталкиваетесь с тяжелейшей задачей. И эта задача вовсе не в том, чтобы вылечить больного, а в том, чтобы сделать его своим союзником в лечении его же заболевания. Пациент не понимает, насколько опасно его заболевание и что именно оно, скорее всего, рано или поздно сведет его в могилу. В девяноста случаях из ста ваш пациент думает, что его лишь немного “прихватило”, что ничего страшного не случится, если он, вдруг, нарушит предписанный ему режим или не станет принимать прописанные ему лекарства».
В терапевтическом кабинете встречаются два абсолютно противоположных друг другу мировоззрения. Диалог между ними – великая проблема. Да, пациент не хочет быть больным, но и не хочет менять образ своей жизни, выносить тяготы лечения, ограничения, связанные с этим лечением. Врачу абсолютно понятно, что, если его пациент не изменит образ жизни, не будет лечиться так, как это следует делать, он умрет. А пациенту – нет, непонятно, потому что он ни разу не был на вскрытии в патологоанатомической лаборатории.
Вот ты видела сердце с множественными микроинфарктами или, например, как выглядит разрыв аорты?
Я с ужасом смотрю на Андрея.
– А я видел, и любой врач видел. Поэтому, когда специалист мне что-то рекомендует, мне сразу становится понятно, что надо пить таблетки. Мне достаточно сказать, что может возникнуть закупорка сосудов, и я послушно выпью все назначенные лекарства. Так что, по большому счету, проблема только в том, что наши доктора иногда забывают – далеко не все их пациенты год провели на кафедре патанатомии и сдали соответствующие экзамены, а потому воспринимают информацию о возможных рисках немного не так, как сами врачи. Пациент не стоял на вскрытиях свежих трупов, а врач – стоял, поэтому врачу кажется, что он говорит очевидные вещи. И если пациент начинает саботировать лечение, то в глазах медицинского работника он выглядит полным идиотом, которого только могила исправит. Вот я и объясняю своим коллегам в специальных пособиях для семейных врачей, что пациент не идиот, а просто у него другая профессия.
– И поэтому нам, тем, у кого другая профессия, очень трудно контролировать действия врача. Вот ставит врач диагноз, назначает лечение, а где гарантия, что он не ошибся? Между прочим, врачебные ошибки – не такая уж редкость. И, как правило, выясняется это, когда уже слишком поздно. Вон сколько про это сюжетов по телевизору!
– Да, риск существует – как и в любой другой сфере деятельности человека. Согласен, ошибка парикмахера-стилиста испортит клиенту только прическу и настроение, это не смертельно. Однако профессий, где ошибки грозят значительным материальным ущербом и опасны для жизни человека, более чем достаточно. Дом может обрушиться из-за просчетов архитектора, машина – перевернуться из-за неправильных действий водителя. Но что же теперь, жить на улице и не пользоваться автотранспортом?
Нужно просто здраво соотносить риски. Риск, что врач поставит неправильный диагноз и будет упорно лечить вас «не от того», на самом деле во много раз меньше, чем риск запустить болезнь, если вы, из-за своего страха, так и не решитесь обратиться к врачу. Вот тут уж неприятности вам гарантированы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: