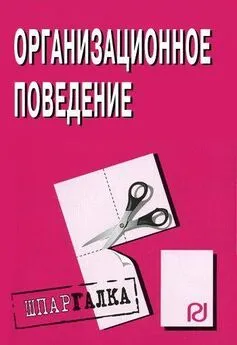Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы
- Название:Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Институт психологии РАН
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9270-0141-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы краткое содержание
Первый в российской психологической науке коллективный труд, отражающий современное состояние и перспективы развития психологии совладающего поведения, состоит из пяти разделов, которые охватывают широкое поле теоретико-экспериментальных разработок проблем психологии совладания: методологии и методов исследования, соотношения совладающего поведения и психологических защит, клинических аспектов копинга, личностных и субъектных факторов совладания, копинг-исследований семьи. Книга адресована широкому кругу специалистов, интересующихся адаптивными возможностями человека, совладающего с трудными жизненными ситуациями.
Совладающее поведение. Современное состояние и перспективы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Известно, что ключевым новообразованием личности младшего подростка выступает социальное Я, впервые дифференцированное на актуальный и идеальный компоненты (Абрамова, 2001; Астапов, 2004; Богданова, 2000). Последний позволяет развиваться внутренним механизмам саморегуляции поведения во фрустрирующих ситуациях. Но недостаточный социальный опыт ребенка делает этот механизм слабым и уязвимым, создавая условия для его обращения к внешнему, социально-психологическому ресурсу совладания – системе отношения с близкими взрослыми и друзьями (Астапов, 2004; Божович, 1995; Выготский, 1997; Ильин, 2002 и др.). Возникает устойчивая ориентация на другого человека как поддерживающего партнера. Ведущей потребностью ребенка становятся социальные (социальное сравнение и оценка, подтверждение своего Я другими людьми, признание Я). Поведение впервые начинает выполнять функцию не только презентации себя другим, но и социальной мимикрии (представления себя другим в соответствии с их ожиданиями) (Кон, 1987). Способность к рефлексии связана с потребностью в целенаправленном воздействии на партнеров по общению с целью формирования желаемого образа Я. В 9–10 лет дифференцируются актуальный и возможный (фантомный, придуманный) миры личности, механизмом разделения которых оказываются сильные эмоции, в том числе – страх (Исаев, 1996). Определение границ нового собственного Я и проверка их устойчивости реализуется через эмоциональную экспрессию, которая часто связана не с актуальными, а с воображаемыми, фантомными проблемными ситуациями, на которые проецируется представление ребенка о себе, включающее внешний и внутренний ресурсы совладания с проблемами.
Неразвитость личности ребенка и гетерохрония в формировании достаточного внутреннего ресурса для совладания ведут к опредмечиванию в страхах детей фантомных угроз, связанных с их сомнениями в своих способностях эффективно разрешить проблемные ситуации. Психоаналитическая трактовка страха в качестве защитного механизма слабого Я требует преодоления (Лазарус, 2003). Есть теоретические основания считать страх в 9–10 лет разновидностью пассивной копинг-стратегии – деструктивной эмоциональной экспрессии страха, направленной на привлечение внимания окружающих и интенсификацию их взаимодействия с ребенком с целью восполнения дефицита во внешнем, социально-психологическом ресурсе преодоления фрустрирующих ситуаций (Куфтяк, 2003).
Рассмотрим наши данные о связи личностных факторов детей 9–10 лет с выбираемыми ими копинг-стратегиями (таблица 1).
Таблица 1
Связи копинг-стратегий с личностными факторами по тесту Р. Кеттелла (коэффициент конкордации Кендалла (r))

По выборке в целом копинг-стратегия рефлексивного ухода имеет значимые положительные связи только с фактором «Q» (тревожность и чувство вины) – к стратегии рефлексивного ухода чаще прибегают дети с выраженной тревожностью и чувством вины. Стратегия поиска духовной опоры и поддержки имеет отрицательные значимые связи с интеллектом («В») и уровнем эмоционального возбуждения («D»). Данные стратегии чаще используют дети эмоционально сдержанные, флегматичные, медлительные, со сниженными интеллектуальными способностями. Стратегия деструктивной эмоциональной экспрессии оказалась очень тесно связанной (на уровне р = 0,01) с низкими значениями фактора интеллекта («В») и высокими значениями «астенического» фактора («J»), отвечающего за повышенную усталость, замкнутость, ригидность; оба фактора в рамках стратегии деструктивной эмоциональной экспрессии взаимодействуют с повышенными показателями по фактору тревожности и чувства вины (Q). На первый взгляд, низкие оценки респондентов выборки по фактору интеллекта могли бы быть объяснены влиянием на процессы мышления эмоциональной дезорганизованности детей основной группы. Последующий анализ по группам подтвердил данный тезис: отрицательная связь между фактором интеллекта и копинг-стратегией деструктивной эмоциональной экспрессии обнаружилась только у детей с дезадаптивными страхами (преимущественно – у мальчиков). Стратегия активно-деятельностного отвлечения в выборке в целом оказалась положительно связанной с эмоциональной устойчивостью (фактор С) и отрицательно – с эмоциональной возбудимостью (фактор D). Таким образом, выявлено, что к стратегии активно-деятельностного отвлечения в большей мере склонны дети, хорошо управляющие своими эмоциями, свободные от невротических симптомов, уравновешенные даже в неблагоприятных ситуациях. Стратегия поиска социальной поддержки (общения) у респондентов оказалась положительно связана только с высокими значениями «астенического» фактора (J). В отношении стратегии пассивного отвлечения, разрядки значимых связей с личностными факторами у детей выборки обнаружено не было, что позволяет утверждать, что выбор этой стратегии детьми 9–10 лет в целом имеет ситуативную природу.
В группе детей с дезадаптивными страхами связь копинг-стратегий с личностными факторами имеет иной характер (таблица 1). Доминирующая у этих респондентов копинг-стратегия деструктивной эмоциональной экспрессии оказалась тесно (р = 0,01) положительно связанной (r = 0,263**) с фактором G (социальный контроль) и умеренно отрицательно связанной (r = –0,205*) с фактором В (интеллект). Подобные связи свидетельствуют о том, что во фрустрирующих ситуациях выбор деструктивной эмоциональной экспрессии ребенком основывается на его твердой убежденности в эффективности ее воздействия на окружающих. В этой стратегии проявляются настойчивость, упрямство, педантизм и высокий уровень самоорганизации детей основной группы при достижении ими поставленных целей. Под влиянием эмоции страха, при дефицитарном характере внешнего личностного ресурса этих респондентов, их неуверенности в получении необходимой помощи со стороны окружающих упорство, настойчивость и высокий уровень самоорганизации этих ребят выступают основой развития их эмоциональной дезорганизованности. Их интеллектуальный дефицит, проявляемый в низких показателях фактора «В» и сниженной успеваемости, фактически выступает следствием выраженной озабоченности этих детей, сопровождающейся постоянным страхом.
У детей основной группы стратегия деструктивной эмоциональной экспрессии и поиск социальных контактов тесно связаны с низкими показателями по фактору F (свободное, искреннее проявление спонтанных эмоций) (r = –0,194*). Такая связь подтверждает нашу мысль о том, что эмоция страха (как деструктивная пассивная реакция на фрустрирующие ситуации) связана с ощущением ребенком социального дефицита в процессе реализации своих целей и удовлетворения потребностей. Ведь их низкие показатели фактора F связаны с высоким уровнем озабоченности, поведенческой ригидностью, повышенной осторожностью и пессимистичной оценкой реальности. Р. Кеттелл полагал, что низкие значения этого фактора тесно связаны с социальной ситуацией развития ребенка, чрезмерностью воспитательных воздействий, которые компенсируют недостаточную личностную вовлеченность родителей в процесс межличностного общения с ребенком. Личность ребенка с низким показателем по этому фактору склонна к интернализации (сокрытию) внутренних конфликтов, к внутреннему дискомфорту. В этих обстоятельствах поиск ребенком социальных контактов призван компенсировать его неуверенность, вызванную недостаточностью социально-психологического ресурса для совладания с проблемами.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: