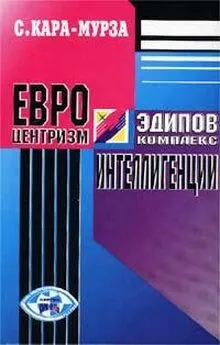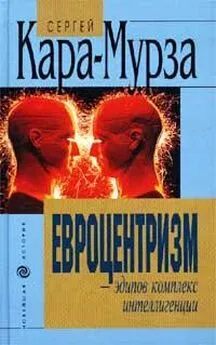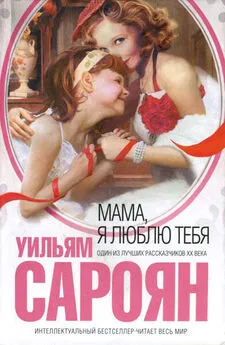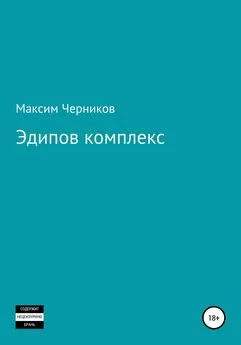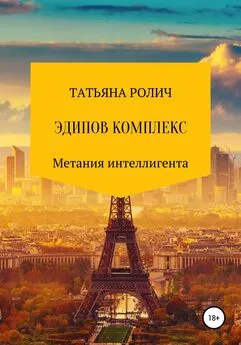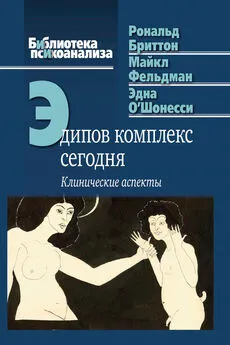Рональд Бриттон - Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя
- Название:Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00180-293-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рональд Бриттон - Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя краткое содержание
Этот термин стал одним из центральных в учении о психоанализе. О том, как он развивается, к чему приводит и как его переживают различные пациенты рассказывают самые известные психоаналитики мира.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Эдипов комплекс. Мама, я люблю тебя - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Странное впечатление от этого табу имени уменьшается, если мы вспомним, что у дикарей имя составляет значительную часть и важное свойство личности, что они приписывают слову полноценное значение вещи. То же самое делают наши дети, как я это указал в другом месте, не довольствуясь никогда предположением, что словесное сходство может не иметь никакого значения; с полной последовательностью они делают вывод, что если две вещи имеют одинаково звучащие названия, то это значит, что между ними имеется глубокое сходство. И взрослый цивилизованный человек по некоторым особенностям своего поведения должен допустить, что он не так уж далек от того, чтобы придавать большое значение собственным именам и что его имя каким-то особенным образом срослось с его личностью. Это вполне соответствует тому положению, что психоаналитическая практика имеет много поводов указывать на значения имен в бессознательном мышлении. Как и следовало ожидать, невротики, страдающие навязчивостью, в отношении имен ведут себя так же, как дикари. У них проявляется острая «комплексная чувствительность» к тому, чтобы произносить или услышать известные имена и слова (точно так же, как и другие невротики), и их отношение к собственному имени является источником многочисленных и часто тяжелых задержек. Одна такая больная табу, которую я знал, приобрела привычку не писать своего имени из боязни, что оно может попасть кому-нибудь в руки и тот благодаря этому овладеет частью ее личности. В судорожной верности, с которой она боролась против искушения своей фантазии, она дала себе зарок «не давать ничего от своей личности». Сюда относилось прежде всего ее имя, а в дальнейшем развитии все, что она писала собственноручно, и поэтому она, в конце концов, перестала писать.
Поэтому нам не кажется странным, если дикари относятся к имени покойника, как к части его личности, и имя это становится предметом табу, касающегося покойника. Произнесение имени покойника может также рассматриваться как прикосновение к нему, и мы можем остановиться на проблеме, почему это прикосновение подвергается такому строгому табу. Самое приемлемое объяснение указало бы на естественный ужас, вызываемый трупом изменениями, которым он быстро подвергается. Вместе с тем как причину всех табу, относящихся к покойнику, следовало бы рассматривать и печаль по поводу его смерти. Однако ужас перед трупом, очевидно, не объясняет всех предписаний табу, а печалью никак нельзя объяснить того, что упоминание о покойнике воспринимается как тяжелое оскорбление для переживших его родственников. Печаль, наоборот, охотно останавливается на умершем, охотно занимается воспоминаниями о нем и старается сохранить их на как можно долгое время. Нечто другое должно быть причиной особенностей обычаев табу, нечто преследующее, очевидно, другие цели. Именно табу имен выдает нам этот еще неизвестный мотив, и если бы на это не указывали обычаи, то мы узнали бы об этом из указаний самих оплакивающих покойника дикарей.
Они вовсе не скрывают, что боятся присутствия и возвращения духа покойника; они выполняют множество церемоний, чтобы прогнать его и держать вдали [10] Как на пример такого признания, у Фрэзера указаны слова туарега Сахары.
. Произнесение его имени кажется им заклинанием, за которым может последовать его появление [11] Может быть, по этому поводу нужно прибавить условие: пока существует еще кое-что из его телесных останков (Фрэзер).
. Они поэтому вполне последовательно делают все, чтобы избежать такого заклинания и пробуждения. Они переодеваются, чтобы дух не узнал их [12] На Никобарских островах (Фрэзер).
, или искажают его имя, или свое собственное; они сердятся на неосторожного чужестранца, накликающего дух покойника на оставшихся в живых родственников его, если он называет покойника по имени. Невозможно не прийти к заключению, что они, по выражению Вундта, страдают страхом «перед душой, ставшей демоном» [13] Вундт. Религия и миф.
.
Этот взгляд приводит нас к подтверждению мысли Вундта, который, как мы видели, усматривает сущность табу в страхе перед демонами.
Это учение, исходящее из предположения, что дорогой член семьи с момента смерти становится демоном, со стороны которого оставшимся в живых следует ждать только враждебных проявлений и против злых намерений которого они должны защищаться всеми силами, кажется таким странным, что в него сначала трудно поверить. Однако почти все видные авторы сходятся в том, что приписывают примитивным народам эту точку зрения. Вестермарк, который в своем сочинении «Происхождение и развитие нравственных понятий», по моему мнению, слишком мало обращает внимания на табу, в отделе «Отношения к умершим» прямо говорит: «вообще, имеющийся у меня фактический материал заставляет меня прийти к выводу, что в умерших чаще видят врагов, чем друзей [14] Вестермарк, т. 2, с. 424. В примечании в тексте приводится большое количество подтверждающих этот вывод, часто очень характерных показаний, например: маори думали, «что самые близкие и любимые родственники изменяют свое существо после смерти и настроены враждебно даже против своих прежних любимцев». Австралийские негры думают, что всякий покойник долгое время опасен; чем ближе родство, тем больше страх. Центральные эскимосы находятся во власти представлений, что покойники только долго спустя находят покой, а вначале их нужно бояться, как злокозненных духов, часто окружающих деревню, чтобы распространять болезни, смерть и другие бедствия (Боас).
, и что левонцы и Гранд Альен ошибаются, утверждая, что раньше думали, будто злоба покойников направляется обыкновенно против чужих, между тем как они проявляют отеческую заботливость о жизни и о благополучии своих потомков и товарищей по клану».
Р. Клейнпауль использовал в производящей глубокое впечатление книге остатки древней веры в загробную жизнь души у цивилизованных народов, чтобы дать картину взаимоотношений между живыми и мертвыми [15] Клейнпауль. Живые и мертвые в верованиях народа, в религии и сказаниях, 1888.
. Самое яркое выражение эти взаимоотношения находят в убеждении, что мертвецы кровожадно влекут за собой живых. Мертвецы убивают; скелет, в виде которого теперь изображается смерть, показывает, что сама смерть представляет собой мертвеца. Оставшиеся в живых чувствуют себя защищенными от преследований мертвецов только в том случае, если между ними и их мертвыми преследователями имеется вода. Поэтому так охотно хоронили покойников на островах, перевозили на другой берег реки. Отсюда и произошли выражения – по сию сторону, по ту сторону. С течением времени враждебность мертвецов ограничилась только той категорией, которой приписывалось особое право на озлобление: убитыми, преследующими в виде злых духов своих убийц, умершими в неудовлетворенной тоске по ком-нибудь, например невестами. Но первоначально, говорит Клейнпауль, все мертвецы были вампирами, все питали злобу к живым и старались вредить им, лишить их жизни. Вообще, труп дал повод к возникновению представления о злом духе.
Интервал:
Закладка:
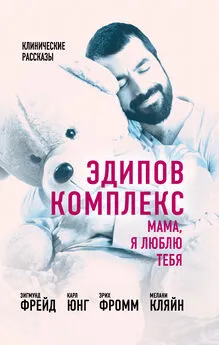

![Юлий Буркин - Мама, я люблю дракона… [Любить дракона]](/books/108464/yulij-burkin-mama-ya-lyublyu-drakona-lyubit-drakona.webp)