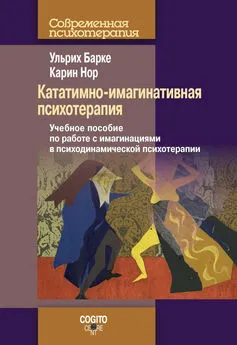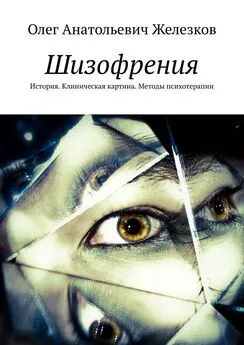Гагик Назлоян - Портретный метод в психотерапии
- Название:Портретный метод в психотерапии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПЕР СЭ
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-9292-0028-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гагик Назлоян - Портретный метод в психотерапии краткое содержание
Монография Гагика Назлояна представляет собой первое систематическое изложение портретного метода психотерапии, предложенного автором более 20 лет назад и ставшего одной из наиболее интересных и оригинальных концепций современной психотерапии. Портретный метод психотерапии, а также «дочерние» методы (лечебный автопортрет, бодиарттерапия и др.) рассмотрены автором в широком контексте современных научных и клинических воззрений. Подробно проанализированы такие феномены психотерапевтического воздействия, как самоидентификация, катарсис и др. Книга предназначена для психиатров, психологов и других специалистов гуманитарных наук.
Портретный метод в психотерапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Впервые обратились к психиатру в ПНД в январе 1983 года. Галлюцинации и сопутствующие расстройства не прекращались. Состояние резко изменилось в 1987 году, когда «лишилась сна, предсказывала конец света, чувствовала мощный поток космической энергии», который проходил через нее. Она «ходила и всех подключала к этому потоку». Если опаздывала на свидание, «останавливала» время. Была госпитализирована в ПБ № 13 г. Москвы. Там стала слышать голоса Бога в разных ипостасях и незнакомые «мягкие» мужские голоса. Дважды под воздействием императивных слуховых обманов бежала из больницы. Получала нейролептики, ЭСТ. После выписки была подавлена, наблюдалась слабость, апатия, она вернулась к мыслям о беременности и о том, что окружающие ее женщины завидуют, злословят и клевещут на нее. Приступы возбуждения повторялись каждую неделю. В 1990 г. была повторно госпитализирована по собственной инициативе, когда «голоса» стали крайне недоброжелательными, настаивали на самоубийстве. В феврале 1992 года обратилась в Институт маскотерапии. Ей было предложено отказаться от приема нейролептиков и работать над скульптурным автопортретом в домашних условиях. Периодически в оговоренные сроки приезжала в наш центр с очередной маской, получала медицинские и технические рекомендации. Иногда неделями не могла притронуться к портрету, просиживала у зеркала. Всего за 3 года выполнила семь удачно завершенных и отлитых портретов. И каждый портрет (этап лечения) приводил к заметным улучшениям. «Когда я садилась за работу, меня волновало, что я могу увидеть в своем лице. Можно устать, свалиться, но, посмотрев на себя, воссоздавая свой образ, почерпнуть силы из своего взгляда. Теперь больше беспокоят утомляемость, раздражительность, неустойчивость настроения, страх перед будущим». Галлюцинаторные переживания вместе с другой патологией становились фрагментарными, лишенными императивного модуса, постепенно перемещались на периферию сознания. Изменились стиль одежды, поведение, пластика, манеры, мимика. Теперь уже не считала себя необычной, старалась одеваться просто, со вкусом; «на людей по-другому смотреть стала, как-то ближе стала к этому миру». Психотическая симптоматика трансформировалась в невротическую – доминировали навязчивые мысли о своей необычности, непохожести на всех. «Когда я не делаю автопортрет, меня пугает мысль, кто я такая, что должна делать, – то ли я обыкновенная, то ли нет, а когда занята работой, эти мысли уходят и я вижу смысл своей жизни». Последний автопортрет (август 1995 г.) и в медицинском, и в творческом плане был наиболее убедительным. Радикальные изменения психики наступили сразу после окончания работы и эмоционально бурного состояния, когда в приступе активности совершала неадекватные действия – поливала спящего мужа молоком, кефиром, водой, разорвала его одежду, что-то выкрикивала, нападала на него. Обстоятельства приступа, длившегося несколько часов, помнит плохо. Сразу после приступа «голоса» исчезли окончательно, изменилась и сама Е. К. «Взгляд стал спокойный, уверенный. В портрете удалось передать цвет глаз, я обнаружила, что это возможно. Еще мне удалось передать глубину взгляда». Сейчас Е. К. – член скульптурной секции Московского союза художников.
4.2. Техника лечебного автопортрета
В результате интенсивного применения на сотнях пациентов этот способ лечения к настоящему времени выглядит следующим образом. Автопортретная терапия проводится в зале-мастерской Института маскотерапии, где в одном помещении проводится лечение несколькими видами искусства: портретирование пациента врачом-скульптором, живопись (классическая и бодиарт), музыка, ритмопластика.
Автопортрет лепится из серого скульптурного пластилина, имеющего необходимую для работы вязкость и пластичность. Используются скульптурные стеки различных размеров; для лепки деталей удобны некоторые зубоврачебные инструменты. Пациенты усаживаются за столики перед зеркалами, берут пластическую массу и готовят, по просьбе врача, овальную форму, близкую по размеру и виду к куриному яйцу. Если больной отказывается это делать или не понимает задания, ему помогает опекун (например, мать или отец), который тоже присутствует и может сидеть рядом, а в некоторых случаях – другой пациент или врач. Определенные сдвиги в состоянии пациента иногда происходят в самом начале, в подтверждение приведем слова нашего пациента: «Когда я создавал яйцо, почувствовал небывалую нежность и родство к себе, ведь там, внутри, должно быть мое лицо, я сам. И странное чувство радости охватило меня, как перед встречей с близким и родным человеком» (случай Г. Б. Аракеловой).
Маски создаются путем выемки лишнего (принцип работы с твердым материалом). При лепке первых масок больным рекомендуется работать пальцами, как можно реже использовать инструменты. Показателем завершения работы над образом служит достижение некоторого уровня, когда скульптура перестает развиваться. Момент стилистического завершения портрета (маска) фотографируется, и врач-скульптор, не вмешиваясь творчески, рекомендует закрыть портрет пластилиновыми лепешками. Формируется новое, по размеру несколько большее яйцо. «Выясняется, – пишет Бахтин, – что всякий действительно существенный шаг вперед сопровождается возвратом к началу… точнее, к обновлению начала» ( Бахтин, 1996, с. 398). На каждом новом этапе пластический образ должен становиться ближе к прототипу. Получается набор масок, которые, как в матрешке, вставлены одна в другую. Они, по выражению пациентов, «изнутри помогают лепить». Ритуал закрытия осуществляется пациентом по возможности бережно, чтобы не повредить созданный образ.
4.3. Автопортрет и принцип матрешки
Технология изготовления собственного портрета в виде серии стилизованных масок одна на другой напоминает матрешку. Каждая маска, при реальном несходстве, подобна предыдущей, полностью идентифицируется больным с самим собой. Хотя маски подобны по смыслу, но, как и в матрешке, оптически неравноценны. Есть также складка и внутренняя пустота, куда помещается предыдущая форма. А новое значение возникает путем нарушения гладкой поверхности пластилинового яйца. В отличие от матрешки здесь существуют некоторые технические ограничения: а) произвольные – размер с куриное яйцо в начале и натуральная величина в конце; б) необходимые – по меньшей мере символическое сходство в начале и реалистическое в конце. Это позволяет преодолеть неопределенность матрешки. Идентичность достигается тут не по образу самой маленькой фигурки, а достижением все большего соответствия каждого захороненного образа – «храм в храме» у инков и христиан. То есть образ не «переселяется» в другой слой, а воплощается, становясь основой (как материальной, так и идеальной) следующего образа. Сам мастер непременно должен меняться в творческом процессе и задавать новый образ. Это создает феномен диалога с самим собой, чего нет в игре с матрешкой, где происходит простое дублирование образа. Движение автопортрета касается самого человека, который держит в руках «матрешку», на ней изображен он сам. Если бы на игрушечной матрешке был изображен сам зритель, он увидел бы одно и то же статичное изображение, а раскрытие смысла (в силу одинаковости) было бы бесконечной процедурой, – цикличность в смене надежд и разочарований. Смысл не меняется в этой игре, поэтому диалог отсутствует. Здесь речь идет не о народной матрешке (совершенно безупречной по своей сути), где воспроизводится рост, взросление, причем можно идти назад к детству, а о постмодернистской интерпретации этого явления (см.: Орлицкий, 1996, Орлов, 2001). В развитии же автопортрета происходит некий онтогенез похожих (по своей отнесенности к автору) и одновременно непохожих в деталях эстетических форм, которые продвигаются в сторону материализации универсальной идеи, окончательного сходства с оригиналом. Автопортрет больше напоминает акт рождения человека, если иметь в виду оболочки души, его организм, и совпадает с принципом матрешки в непосредственном, а не в опосредованном ее восприятии. В последнем случае матрешка – это философия рутины, а автопортрет – философия диалога, творчества, рождения произведения искусства, возрождения пациента. Это две разные модели мира.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: