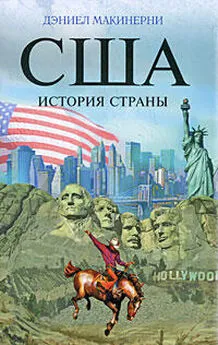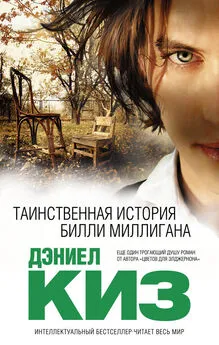Дэниел Робинсон - Интеллектуальная история психологии
- Название:Интеллектуальная история психологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Св. Фомы»
- Год:2005
- Город:М.
- ISBN:5-94242-012-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дэниел Робинсон - Интеллектуальная история психологии краткое содержание
– исследование основных эпох развития психологических идей от периода досократиков до современности. Реконструируются, насколько это возможно, взгляды на проблемы знания, памяти, разума, поведения, управления. Особенности психологических концепций соотносятся с политическими, экономическими, научными, религиозными, культурными обстоятельствами соответствующего времени. Фактически выявляется тот круг идей, который смог бы составить основание психологии, случись ей выделиться в отдельную дисциплину раньше – во времена Платона, Аристотеля, схоластов, в эпоху патристики или Возрождения, – и тот круг идей, который в действительности составил основание современной психологии. Исследуя исторические противостояния различных тенденций, Робинсон оценивает убедительность позиции каждой из сторон…»
Интеллектуальная история психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По косвенным данным можно предположить, что Аристотель прибыл в Академию после того, как в платоновском кружке была завершена работа над Тэететом и он был занят Парменидом . Вернер Джегер убедительно показал маловероятность того, что сомнения Аристотеля, изложенные в этом диалоге, на самом деле были произнесены юношей из Стагира 2. Действительно, хотя у нас и нет ранних диалогов самого Аристотеля, обстоятельства того времени дают важные свидетельства в пользу того, что эти диалоги были созвучны доминирующим теориям Академии. Некоторые из них были, по-видимому, просто модернизациями поздних работ Платона (таковы, например, Эвдем , сравнимый с Федоном Платона, и Грилл, сравнимый с Горгием Платона) 3. Среди этих самых ранних работ мы находим и фрагменты из Протрептика ( Protrepticus ) 4– это произведение, хотя оно и не является диалогом, представляет собой почти ортодоксальный платонизм. Именно в данной работе мы обнаруживаем оправдание приверженности Анаксагора к «созерцанию небес» и обращение к авторитету Пифагора. Мир чувств уважается, однако наиболее важным провозглашается мир идей:
«Следовательно, мы должны делать все во имя добродетелей, присущих самому человеку, и среди них то, что является телесным благом, нам следует делать ради того, что является душевным благом… [М]удрость есть высшая цель» 5.
«[М]ы должны либо заниматься философией, либо попрощаться с жизнью…потому что все прочие вещи кажутся всего лишь крайней бессмыслицей и глупостью» 6.
Однако его увлечение душой и ее идеями смешивается с тонкими намеками на грядущий переворот:
«…если жизненные предпочтения и жизненный смысл устанавливаются за счет чувственного восприятия, и если чувственное восприятие есть некоторый вид знания…» 7
Ясно, что самые ранние интеллектуальные приверженности Аристотеля, в целом, были платоновскими. Переворот, предпринятый им в зрелые годы, можно было бы считать не столько атакой на платонизм, сколько уникальным критическим синтезом. В течение столетий, последовавших за смертью Платона и Аристотеля, философы обычно рассматривали две их школы как дополняющие друг друга и сходные, а вовсе не как противостоящие на самом высоком уровне.
Тем не менее заслуживают упоминания различия между Аристотелем – автором утерянных диалогов, и Аристотелем, известным по сохранившимся работам 335–322 гг. Во-первых, самый ранний Аристотель – слушатель Академиии, который столкнулся со ставшими уже традиционными проблемами философии, но смотрел на них через призму мировоззрения, которое не так-то легко приписать эллинистическому периоду. Аристотель, считающийся как со своими собственными интересами, так и со склонностью Александра распространять и внедрять греческую культуру по всей империи, должен был понять, что диалектический метод был здесь бесполезен. Материалы, готовившиеся для преподавания в Ликее, представляли собой скорее лекторские конспекты, а не плоды поздних ночных диалогов.
Аристотель отошел от платоновской традиции также в самом круге и в деталях обсуждаемых им вопросов. По глубине исследования диалоги Платона не имеют равных себе, но им часто недостает того фактического содержания, которое в настоящее время считается (благодаря Аристотелю!) главным в научных и учебных делах. Учение Аристотеля стремилось заполнить этот провал между общими принципами и фактической информацией. Если приверженцы Платона в Государстве спокойно спорили по поводу конституции, то Аристотель изучил около 158 разных существовавших тогда конституций, анализируя их предпосылки и подтверждающие фактические данные. Найдена лишь одна из этих работ – Конституция Афин . Доскональное ее изучение, проведенное Аристотелем и его учениками, позволяет судить о том, насколько грандиозными были исследовательские усилия, прилагавшиеся к анализу других конституций. И еще: в то время как Тимей в платоновском диалоге удовлетворяется объяснением восприятия пространства, ссылаясь на какое-то «незаконное умозаключение», Аристотель посвящает целые книги вопросам зрения, осязания, вкуса, сенсорной интеграции, а также чувствований у нечеловекоподобных животных.
Наконец, платоники были готовы отвергать все, кроме абстракций, считая остальное неважным. Ни Аристотель, ни его современники не могли позволить себе такую роскошь. Те немногие пассажи из текстов Аристотеля, в которых о платонизме говорится в пренебрежительном тоне, неизменно направлены на весьма определенные элементы платоновской программы. На это намекают две версии Метафизики Аристотеля: более ранняя, в которой при обсуждении идей используется местоимение от первого лица во множественном числе, и более поздняя версия, в которой используется местоимение от третьего лица во множественном числе 8. Этот грамматический сдвиг весьма примечателен. В указанной поздней версии все приверженцы особой реальности – сферы идей, – которые рассматривают область явлений лишь как искажение истины, обозначаются местоимением «они», в то время как раньше для этого употреблялось местоимение «мы».
В Метафизике Аристотель хвалит Сократа за разработку индуктивного рассуждения и за развитие теории и проблемы универсалий 9. В Тэетете и Меноне Сократ проводит различие между восприятием частных случаев и общими идеями, которые не могут быть получены посредством восприятия. Иллюстрацией служит общая идея «кота». Мы можем видеть определенного кота, но мы лишь тогда знаем (когнитивно), что это кот, когда он отвечает описанию, данному нашей общей идеей кота. Говоря предельно просто, проблема универсалий такова: ни один отдельно взятый кот не может быть идентифицирован как таковой, если отсутствует некоторый сверхиндивидуальный класс (то есть универсалия), частным случаем которой этот кот является; следует ли из этого, что универсальный кот реален?
В более поздней схоластической философии те, которые наделяли подобные универсалии реальным существованием, были известны как реалисты ; те же, кто настаивал, что названия, вроде слова «кот», служат всего лишь именами, которые присваиваются конкретным вещам, были известны как «номиналисты». Далее, Сократ не утверждал, что где-то в космосе некий совершенный четырехлапый мурлыкающий идеальный кот сидит, потягивая идеальное молоко. Он никоим образом не был такого рода реалистом. Но он полагал, что истинное знание о коте зависит от истинной идеи кота, которая есть универсалия; истинная форма кота – это не то, с чем сравним конкретный кот. Поскольку всякий конкретный кот может быть лишь приближением к идеальному, наше перцептивное знание котов может быть лишь приближением к истинному знанию о коте. В восприятии, однако, даны лишь определенные свойства, поэтому само по себе оно не способно раскрыть идеал. Идеал же, безусловно, есть идея: это – то, в чем присутствует доля каждого конкретного случая, но это долевое участие несовершенно и неполно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: