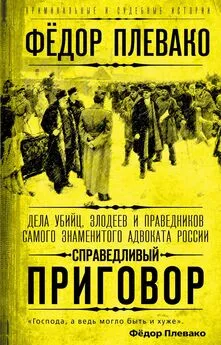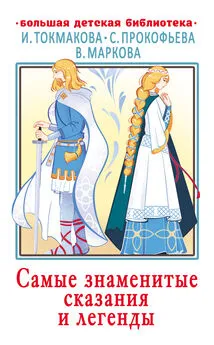Геннадий Прашкевич - Самые знаменитые поэты России
- Название:Самые знаменитые поэты России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Прашкевич - Самые знаменитые поэты России краткое содержание
В новую книгу серии «Самые знаменитые» вошли жизнеописания самых выдающихся поэтов России, начиная от Ломоносова и Державина и заканчивая Рубцовым и Бродским. Автор книги – писатель и поэт Г. Прашкевич размышляет о тайнах поэтического творчества, судьбах великих поэтов России.
Самые знаменитые поэты России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В январе 1918 года (практически в течение месяца) Блок написал поэму «Двенадцать», стихотворение «Скифы» и статью «Интеллигенция и революция». Именно в этой статье он призывал всем сердцем, всем сознанием – слушать музыку Революции, хотя до него самого доносились, видимо, не самые веселые ее напевы. Даже очень не самые. Квартира его была уплотнена, исчезло электрическое освещение, мать вынуждена была жить с сыном, хотя совершенно не могла ужиться с невесткой. А после выхода в свет «Двенадцати» многие друзья и соратники объявили Блоку бойкот – не подавали руку при встречах, отказывались выступать на одних с ним вечерах. «Его поэма „12“, неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень нашумела, – писала Гиппиус, не скрывая откровенной злобы. – Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создалась об этих „апостолах“ еще при жизни Блока. Наверное, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И, наверно, он не сказал, – „потому что это несказанно“. Большевики несказанностью не смущаясь, с удовольствием пользовались „Двенадцатью“; где только не болтались тряпки с надписью: «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся, – не раздувался…»
Однако Блок понимал происходящее все же яснее, чем казалось многим его вольным или невольным критикам. «Художнику надлежит знать, – писал он в мае 1918 года (анкета Союза деятелей художественной литературы), – что той России, которая была, нет и никогда уже не будет, Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятеренном ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но такого рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия – умерли. Они еще могут вернуться и существовать, но они утратили бытие , и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас… Не забудьте, что Римская империя существовала еще около 500 лет после рождения Христа. Но она только существовала , она раздувалась, гнила, тлела – уже мертвая…»
В феврале 1919 года (ликвидация эсеровских организаций) Блок по ордеру Петроградской ЧК был арестован и несколько дней провел во всем известном тогда зловещем заведении на Гороховой. «По порядку, заведенному на Гороховой, – вспоминал эсер А. З. Штейнберг, – каждое утро сообщался список арестованных, препровождавшихся отсюда в места более постоянного заключения, главным образом, на Шпалерную, в так называемую „предварилку“. И в это утро, воскресенье 17-го февраля, список был сообщен, и камеры значительно разгрузились. Многие койки освободились совершенно, и арестованные, разделявшие их с другими или не нашедшие еще себе никакого определенного пристанища, в том числе и я, начали устраиваться на новых местах. Только что я разостлал шубу на сеннике и поставил свой саквояж у изголовья, как мне бросилась в глаза высокая, статная фигура входившего Блока. Это было до чрезвычайности странно. Весь облик Блока как-то резко выделялся на фоне этой жуткой картины человеческих бед. Одна ночь в этой совершенно особой и ни с чем не сравнимой атмосфере, в которой причудливо сплетались предсмертная тоска и робкая надежда, удалая беспечность и тяжелые сны, ужас перед неизвестностью и светлые воспоминания – одной такой ночи достаточно было, чтобы на все лица легла мрачная тень, чтобы во всех взорах загорелось одно и то же страстное желание: поскорее бы вон отсюда! Подальше, подальше отсюда!.. Блок вошел, как он входил обыкновенно куда-нибудь, где много случайных и незнакомых людей. Таким я видел его входящим в переполненный вагон трамвая: чуть-чуть откинутая назад голова, плотно сжатые губы, взгляд, спокойно ищущий на чем бы остановиться. Он вошел, как будто собираясь пройти насквозь или чтобы, сказав кому-нибудь два слова, повернуться и уйти обратно тем же легким упругим шагом, каким он вошел. И было странно видеть, как вот этот свободный в заключении человек сейчас натолкнется на глухую стену и должен будет остановиться или даже отпрянуть. Мне было как-то неловко пойти к нему навстречу, хотя после тяжелой ночи это был первый блеснувший луч… Между тем, весть о том, что здесь известный писатель Блок, уже успела облететь обе камеры и вокруг нашего стола собралась целая куча народу. Многие спрашивали, где он, и на цыпочках подходили к койке, где он дремал, чтобы взглянуть на него, и снова отходили в раздумье, односложно делясь своими впечатлениями. Не все они знали о нем раньше, хотя бы понаслышке, многие только слышали о нем и уже совсем немногие читали его. Эти последние были почти исключительно политические. Но всем было как-то отрадно знать, что вот здесь, на этой „Гороховой, два“, вместе со всеми „известный писатель“ и, взглянув на него, все уже потом с участием, которое сохранилось к нему весь этот день до самого его освобождения, подходили к нему, чтобы как-нибудь выразить свое доброе чувство…»
«Я слышал Блока первый раз в конце 1919 года, – вспоминал писатель К. Федин. – Вымороженная, мрачная комната на Литейном была заполнена окоченевшими людьми в шубах и солдатских шинелях. Они сидели тесно, словно обогревая друг друга своими неподвижными телами. Единственный человек, по принятому когда-то обычаю снявший шубу, находился на кафедре и – без перчаток – спокойными пальцами перевертывал листы рукописи… Это был Блок… Белый свитер с отвернутым наружу воротником придавал ему вид немного чужестранный и, пожалуй, морской. Он читал монотонно, но в однообразии его интонации таились оттенки, околдовывавшие, как причитания или стихи… Он показался мне очень прямым и то, что он говорил, – прямолинейным. Он говорил о крушении гуманизма, о судьбах цивилизации и культуры. Слова его были набатом во время пожара, но слушателей, казалось, сковывал не ужас его слов, а красота его веры в них. Его лицо было малоподвижно, иногда почти мертвенно. Шевелились только губы, взгляд не отрывался от бумаги. Странная убедительность жизни заключалась в этой маске…»
Последние годы жизни Блок работал в советских учреждениях, хотя и тяготился этим: входил в Комиссию по изданию классиков, являлся членом Петроградского театрального отдела Наркомпроса, председателем репертуарной секции, членом созданного М. Горьким издательства «Всемирная литература», даже некоторое время возглавлял Союз поэтов (был первым его председателем), наконец, председательствовал в режиссерском управлении Большого Драматического театра. «Бытовые условия в блоковской семье, – вспоминала Павлович, – были тяжелые, как, впрочем, у большинства интеллигенции. Александр Александрович в прямом смысле этого слова не голодал, и слухи о том, что он умер от истощения, неверны, но, конечно, основной пищей были пшено, селедка. Сахару, жиров и мяса, без которых особенно страдал Блок, не хватало. В конце 1920-го и в начале 1921 года домработницы не было. Хозяйничала, довольно неумело, Любовь Дмитриевна. Александра Андреевна ей помогала. Но большая нагрузка была и у Александра Александровича. Он сам носил дрова из подвала, всего на второй этаж, но сердце у него уже сдавало. Часто приходилось ему убирать квартиру – и тогда в комнатах воцарялся фантастический порядок. Каждая вещь словно застывала на от века предназначенном ей месте. Было нечто судорожное в этой четкости и аккуратности. Мария Михайловна Шкапская рассказывала мне, как она пришла к Блоку, когда он укладывал возле печки лучинки для самовара. Они были тонко наструганы. Все кругом блестело. Блок сказал: „Этот порядок необходим, как сопротивление хаосу. Вы тоже это понимаете“.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
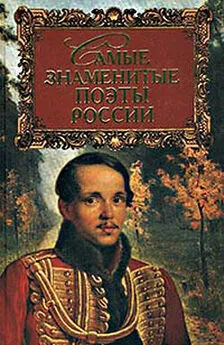




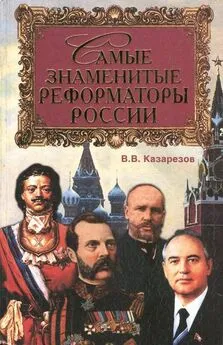
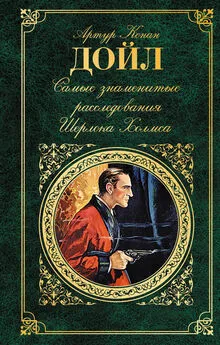
![Александр Бушков - Сыщик, ищи вора! [Или самые знаменитые разбойники России] [litres]](/books/1056532/aleksandr-bushkov-sychik-ichi-vora-ili-samye-zname.webp)