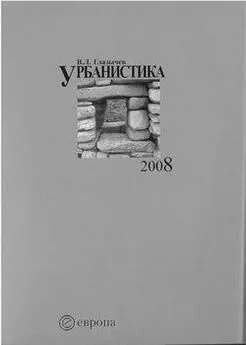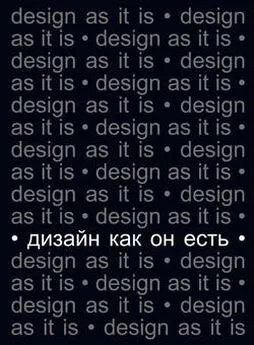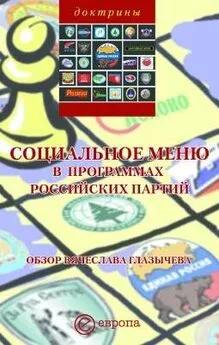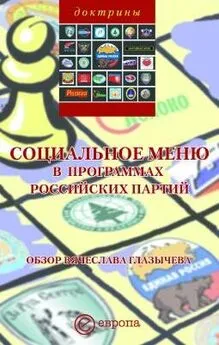Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1
- Название:Урбанистика. часть 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:9eeccecb-85ae-102b-bf1a-9b9519be70f3
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9739-0148-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Глазычев - Урбанистика. часть 1 краткое содержание
Город, существующий тысячи лет, создавали и осмысляли, всегда осмысляли и всегда переделывали заново. Но особенную напряженность этот процесс приобрел в последние полтораста лет, когда города начали распухать на дрожжах индустриализации. В этом году впервые в истории человечества численность городского населения в мире уже сравнялась с численностью сельских жителей. В европейских странах, включая Россию, доля городского населения превышает три четверти и продолжает расти. Растет и исход населения из городов, где условия жизни становятся все труднее, в пригороды, где, однако, эти условия тоже стремительно осложняются. Автор книги предпринял попытку в сжатом виде изложить опыт удач и опыт провалов в различных подходах к стратегии развития городов, накопленный за полтора века.
Книга, свободная от академической усложненности, адресована всем, кто хочет узнать, что происходило и происходит с городами, в которых мы живем, и чего можно ожидать от ближайшего будущего в организации городской жизни.
Урбанистика. часть 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стоит заметить, что во всех ведущих столицах к реформам толкали прагматические соображения подготовки к войне: из 10 тыс. англичан родом из промышленных городов лишь 3 тыс. были признаны годными к военной службе, из берлинских рекрутов – менее половины против двух третей сельских жителей. Сходную картину дали исследования Ивана Озерова в России. Еще резче проблема рабочего жилища проступила в США, где концентрация людей в городах всегда имела упорных противников по идеологическим соображениям, как противоречившая идее личной свободы. Комиссия по доходным домам установила в 1894 г., что трое из пяти ньюйоркцев жили в наемных квартирах, в домах, занимавших 80 % участка, а плотность населения на гектар территории превысила ту, что была характерна уже не для европейского города, а для индийского Бомбея. Не лишено интереса, что все это было результатом конкурсного проектного решения 1879 г., породившего так называемые «гантели». В этих домах, которые можно счесть шедевром уплотнения, 24 маленькие квартиры приходились на участок шириной 9 м и глубиной 35 м, а 10 из 14 комнат на каждом этаже были обращены к узкой щели светового колодца. Если принять во внимание влажную жару нью-йоркского лета и то, что в типовом квартале, собранном из четырех «гантелей», прижатых одна к другой, было «упаковано» до 4 тыс. человек, а в множестве квартир оказывалось по две семьи, легко понять, что эти несчастные проводили краткий досуг на улице и, часто проводили весь досуг на наружных пожарных лестницах.
В отличие от Европы, где перед Мировой войной уже утвердилась идея публичного строительства для наиболее нуждающихся, американцы решительно отказались от нее, ссылаясь на осложнения для частного предпринимательства, неизбежный рост бюрократии и вторжение политики в сферу бизнеса. Вместо этого было решено усилить нормативные ограничения для частного девелопера во всем, что относилось к стандартам пространственного и технического порядка. Актом 1901 г. было утверждено свыше ста таких технических регламентов.
Так или иначе, проблема массового недорогого жилья приобрела международный характер, и в попытках приблизиться к ее решению впервые урбанисты-теоретики и обеспокоенные практики разного рода оказались по одну сторону. По другую сторону маячил вполне реальный образ социальной революции, и хотя свой знаменитый лозунг «Архитектура – ИЛИ Революция» Ле Корбюзье выдвинул много позднее, уже после российских событий, необходимость выработки новых принципов планирования развития городов была широко осознана как путь к самосохранению. Тем более широко, что Освальд Шпенглер, чья книга «Упадок Запада» (в России известная как «Закат Европы») оказалась на полке всякого читающего человека, с необычайной энергией и красноречием предсказал смерть цивилизации от самоудушения в городах.
Теория – практика – теория
Мы не можем здесь пересказать сложную историю реформизма в городском планировании в полном ее объеме, поэтому ограничимся лишь несколькими, наиболее яркими фактами, очевидным образом соотносимыми с российскими реалиями наших дней, спустя целое столетие.
Строго говоря, невозможно твердо установить, что следовало за чем. Когда именно идеи урбанистов опережали практику, а когда реальная практика явно вырывалась вперед. Независимо от статей, книг, и проектов, утопических в большей или меньшей степени, происходили ключевые перемены. Города продолжали расти, захватывая пригороды по мере строительства новых предприятий, трамвай и метрополитен сжали расстояния, заработная плата росла, что позволяло широко пользоваться общественным транспортом и увеличивало спрос на жилье. При этом в строительстве зарплата росла медленнее, что снижало его стоимость и увеличивало его доступность. Была открыта мощь ипотеки с невысокими процентными ставками и длительным сроком выплат. Все это было естественным ходом запущенного маховика капиталистической экономики, и тем не менее, идеи урбанистов отражались на всей этой практике – изредка прямо, непосредственно, но чаще через общий мировоззренческий сдвиг. В том, что относится к миру идей, первенство опять принадлежало Лондону.

Формирование первых «городов-садов» стало возможным благодаря соединению двух обстоятельств: предельный дискомфорт исторического города, перегруженного движением конных экипажей, с одной стороны, и интенсивное развитие пригородного железнодорожного сообщения. Вторжение автомобиля в уцелевшие поселки в большинстве случаев привело к их существенной социальной деградации и, соответственно, смене населения.
Все тот же Чарльз Бут в первый год ХХ в. опубликовал программу интенсивного строительства наземных и подземных железных дорог, дублированную более частой сетью трамвайных путей, в качестве основы, побуждающей к развитию строительства в пригородах. Бут делал ставку на частную инициативу, но за реализацию той же по существу программы взялся ЛГС – Лондонский Городской Совет. Между 1900 и 1914 годами были построены 17 тыс. комнат на расчищенных от трущоб городских землях и еще 11 тыс. за городской чертой. Из четырех проектов, каждый из которых был связан либо с продолжением линии метро, либо с железнодорожной веткой, наиболее показательным стал поселок Олд Оук. Несмотря на скромные размеры, он послужил образцом и для берлинского района с милым названием Хижина дяди Тома, спроектированного архитектором Бруно Таутом в 20-е годы, и для уже послевоенных городов-спутников Стокгольма. Однако планировщики ЛГС, уступая необходимости строить как можно дешевле и в привязке к трамвайным линиям (здесь цена проезда регулировалась ЛГС) в основном должны были манипулировать четырехэтажными зданиями в стандартной планировочной сетке улиц. Лишь при строительстве поселка Нербюри сразу после войны они смогли перейти к свободному использованию возможностей ландшафта, создав из группы «террас» таунхаусов на холме своего рода подобие средневекового европейского городка.
В 1908 г. после долгой борьбы в Парламенте был принят Билль о городском планировании и застройке, предписавший местным властям осуществлять разработку генеральных планов под будущую крупномасштабную застройку на значительных территориях. Отнюдь нет случайного совпадения в том, что Раймонд Унвин создал и возглавил в это время первую в мире кафедру городского планирования, так как уже через несколько лет генеральные схемы развития на площадях от 500 до 1500 гектаров становятся нормой для множества городов Великобритании.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: