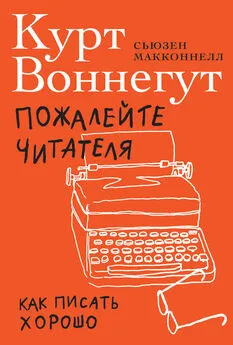Уильям Зинсер - Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов
- Название:Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина
- Год:2013
- ISBN:978-5-9614-4409-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Зинсер - Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов краткое содержание
Книга Зинсера пригодится всем, кому приходится или кто по собственному желанию пишет нехудожественные тексты — от деловых писем до научно-популярных книг.
Как писать хорошо. Классическое руководство по созданию нехудожественных текстов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вы тоже можете пересечь свой Бруклинский мост с помощью своей персональной истории. Через мемуары легче всего ощутить, что такое быть новичком в Америке, и каждый автор из иммигрантской семьи обладает неповторимым голосом, в котором звучит нотка его культурной самобытности. Следующий пассаж из книги «Назад в Бачимбу» (Back to Bachimba) Энрике Хэнка Лопеса прекрасно передает всю мощь притяжения оставленной позади страны и покинутого прошлого — притяжения, которому этот жанр в столь высокой степени обязан своим эмоциональным зарядом:
Я почо из Бачимбы, маленького мексиканского поселка в штате Чиуауа, где мой отец сражался в армии Панчо Вильи. Фактически он был в армии Вильи единственным рядовым.
Для мексиканского уха слово почо звучит оскорбительно (строго говоря, почо — это разгильдяй из местных, который хочет заделаться одним из презираемых гринго), но я употребляю его в особом, очень конкретном смысле. Для меня это слово стало означать «мексиканец, оторванный от своих корней» — иначе говоря, тот, кем я был всю свою жизнь. Хотя я воспитывался и получил образование в Соединенных Штатах, я никогда не чувствовал себя настоящим американцем, а когда мне случается попасть в Мексику, я иногда ощущаю себя угодившим на чужбину гринго, обладателем причудливого мексиканского имени — Энрике Пресилиано Лопес-и-Мартинес-де-Сепульведа-де-Сапиен. В культурном отношении я кажусь себе (и, наверное, другим) этаким шизофреником, носителем обеих культур.
Эта шизофреническая раздвоенность берет начало в далеком прошлом — она зародилась, когда мой отец вместе с большой частью войск Панчо Вильи бежал за границу от наступающих федералес, которые в конце концов победили Вилью. Мы с матерью пересекли жаркую пустыню на скрипучей телеге и через несколько дней после поспешного бегства отца присоединились к нему в техасском Эль-Пасо. Поскольку каждый день туда приходили все новые сторонники Вильи, моим родителям стало ясно, что с работой в Эль-Пасо будет туго, так что мы собрали наши немногочисленные пожитки и с первым же автобусом отправились в Денвер. Отец надеялся переехать в Чикаго, потому что это название звучало совсем по-мексикански, но скудных сбережений матери едва хватило на билеты до Колорадо.
Там мы поселились в районе, чьи обитатели говорили на испанском, предпочитали называть себя испаноамериканцами и негодовали по поводу внезапного нашествия своих мексиканских сородичей, которых они пренебрежительно именовали суруматос (жаргонное словечко, обозначающее южан)… Мы, суруматос, сбились в кучу в своем собственном районе, поменьше, — гетто внутри гетто, — и именно там ко мне пришло болезненное осознание того, что мой отец был единственным рядовым в армии Вильи. Большинство моих друзей были сыновьями капитанов, майоров, полковников и даже генералов, хотя среди их отцов попадались и простые сержанты с капралами… Моя досада усугублялась тем, что подвиги Панчо Вильи были в нашем доме — вечной темой для разговоров. Его тень лежит на всем моем детстве. Почти каждый вечер за ужином мы слушали бесконечные истории о такой-то битве, такой-то военной хитрости или таком-то проявлении робин-гудовского благородства со стороны нашего великого эль сентауро дель норте…
Словно для того, чтобы мы еще основательнее прониклись этим духом преклонения перед Вильей, родители обучили нас «Аделите» и «Се лъеварон эль каньон пара Бачимба» («Они привезли пушку в Бачимбу»), двум самым знаменитым песням мексиканской революции. Лет двадцать спустя, учась на юридическом факультете Гарварда, я гулял по берегу Чарлз-Ривер и все время ловил себя на том, что принимаюсь напевать «се лъеварон эль каньон пара Бачимба, пара Бачимба, пара Бачимба». Больше я не помнил из этой щемяще-печальной повстанческой песни ни единого слова. Несмотря на то что я родился в Бачимбе, это название всегда казалось мне ненастоящим, выдуманным, как будто взятым из книги Льюиса Кэрролла. Так что восемь лет тому назад, впервые возвратившись в Мексику, я был буквально ошеломлен, когда увидел на перекрестке к югу от Чиуауа указатель с надписью «Бачимба — 18 км». Значит, она и вправду существует! — воскликнул я про себя. Бачимба — реальный город! Свернув на узкую разбитую дорогу, я нажал на газ и помчался к городу, о котором пел с самого детства.
Максин Хонг Кингстон, дочери китайских эмигрантов из Стоктона, Калифорния, на всю жизнь запомнилось то, какую робость и смущение она испытывала, посещая начальную школу в чужой, незнакомой стране. В этом фрагменте из ее книги «Женщина-воин» (The Woman Warrior), метко озаглавленном «В поисках голоса», Кингстон сумела удивительно ярко восстановить атмосферу тех давних, тяжелых для нее лет:
Когда я впервые пришла в подготовительный класс, где надо было говорить по-английски, меня сковала немота. Эта немота — или стыд — до сих пор заставляет мой голос срываться, даже если я хочу всего лишь сказать «привет», или задать пустяковый вопрос кассиру в магазине, или попросить водителя автобуса назвать нужную остановку. Я вдруг коченею от ужаса…
В течение всего первого молчаливого года я не заговорила в школе ни с кем, не спрашивала разрешения выйти в туалет и прогуливала занятия в подготовительном классе. Моя сестра тоже ничего не говорила целых три года, молчала на переменах и во время ланча. В школе были и другие китайские девочки, не из нашей семьи, но большинство из них преодолели свою застенчивость раньше, чем мы. Мне нравилось молчать. Сначала мне просто не приходило в голову, что я должна с кем-то говорить и посещать все уроки, чтобы перейти в следующий класс. Дома я разговаривала с родными, а в школе — только с одной-двумя китаянками из моего класса. В остальном я ограничивалась жестами, иногда даже шутила. Когда вода перелилась через край моей игрушечной чашки, я отпила из блюдечка; все вокруг засмеялись и стали показывать на меня пальцем, так что я повторила свой жест. Я не знала, что американцы не пьют из блюдечек…
И только когда я обнаружила, что должна говорить, школа превратилась для меня в сплошной кошмар. Теперь я не просто молчала, но и страдала. Я не могла заговорить, и эта невозможность причиняла мне тяжкие муки. Однако в первом классе я попробовала читать вслух и услышала, как из моего горла доносится еле слышный шепот вперемежку с попискиванием. «Громче», — сказала учительница и этим спугнула мой едва прорезавшийся голос. Поскольку другие китаянки тоже молчали, я знала, что для китайской девочки это естественно.
Тот детский шепот превратился теперь в голос взрослой писательницы, чьи речи полны мудрости и юмора, и я рад, что этот голос звучит среди нас. Только благодаря американке китайского происхождения я смог почувствовать, каково это — быть маленькой китаянкой в американском подготовительном классе, обязанной вести себя там как американская девочка. Мемуары — один из способов осмыслить культурные различия, которые порой так болезненно ощущаются в будничной жизни сегодняшней Америки. Взгляните, как описывает поиски своей культурной самобытности Льюис Джонсон — правнук последнего официально признанного вождя племени потаватоми-оттава. Вот что он пишет в эссе «Моей дочери-индианке» (For My Indian Daughter):
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: