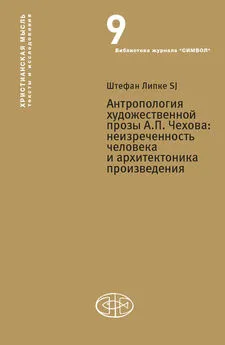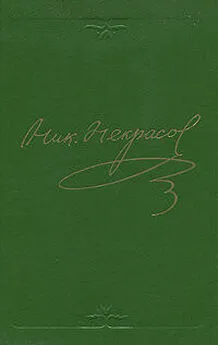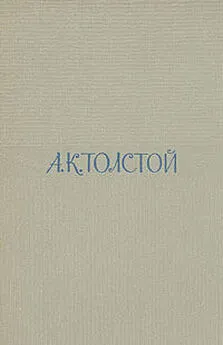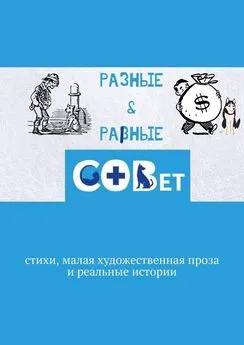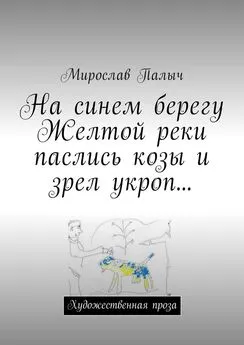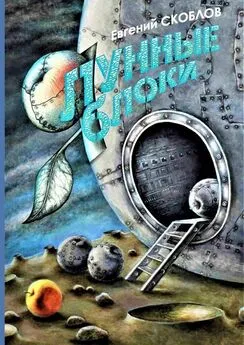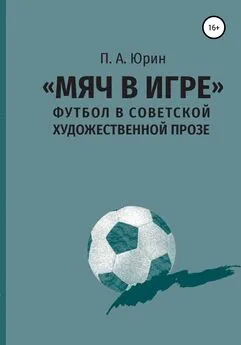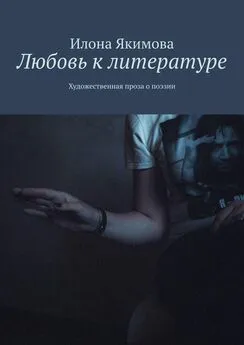Штефан Липке - Антропология художественной прозы А. П. Чехова. Неизреченность человека и архитектоника произведения
- Название:Антропология художественной прозы А. П. Чехова. Неизреченность человека и архитектоника произведения
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-9907661-3-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Штефан Липке - Антропология художественной прозы А. П. Чехова. Неизреченность человека и архитектоника произведения краткое содержание
Антропология художественной прозы А. П. Чехова. Неизреченность человека и архитектоника произведения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Описание атмосферы в начале рассказа, как и само заглавие «Толстый и тонкий», напоминает о традиционной теме «маленького человека». «Толстый» «только что пообедал на вокзале», у него губы «подернутые маслом», от него пахнет «хересом и флер-д'оранжем» (2, 250). Это указывает на его благосостояние. «Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками» (2, 250), потому что, переезжая с семьей на новое место службы, не имеет возможности оплатить доставку багажа (2, 251). От него пахнет «ветчиной и кофейной гущей» (2, 250). Однако разница в социальной позиции, обозначенная данными деталями, не мешает героям вспомнить, что они «друзья детства», и общаться как друзья. Когда же «тонкий» узнает, что бывший одноклассник стал тайным советником, атмосфера меняется: «тонкий» «вдруг побледнел, окаменел» (2, 251), его сын застегивает все пуговки мундира (2, 251). Наконец, говорится, что «на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило» (2, 251). Здесь выражен приоритет внутреннего мироощущения над внешним миром: представление «тонкого» о том, что перед тайным советником следует благоговеть, настолько влияет на все его существо, что присутствие благоговения чувствуется так же конкретно, как вкус. Описание атмосферы свидетельствует о тесной связи между внешней и внутренней сферами жизни человека [108] Чудаков А.П. Поэтика… С. 157.
: его внутренний настрой (мнение о том, что другой человек является исключительно «вельможей-с») не только меняет способ общения «тонкого», но даже влияет на окружающую его среду.
Здесь также говорится, что «тонкий» «съежился, сгорбился, сузился» (2, 251), когда узнал, что бывший одноклассник стал тайным советником. «Тонкий» хихикает, «еще более съеживаясь» (2, 251). Сужается лицо его жены и даже его чемоданы (2, 251). Это символизирует то, что в антропологическом аспекте «тонкий» становится беднее. Отпадают такие возможности общения, как обмен совместными воспоминаниями или радостями и трудностями настоящего, остается только чинопочитание. Сужение главного героя, его родных и его личных вещей, обусловленное единством между человеком и окружающим его миром, указывает на потерю человеческих возможностей в восприятии мира и в поведении.
Рассказ во многом определяется интертекстуальными связями с произведениями реализма, а именно: это проблематика чиновника как «маленького человека», восходящая к повести Н.В. Гоголя «Шинель» (1842). Но, в отличие от Гоголя, Чехов не признает «маленького человека» жертвой социума в классическом смысле [109] Степанов А.Д. Чеховские рассказы… С. 11–12.
. Так, уже в самом раннем творчестве (правда, до какой-то степени и под влиянием цензуры [110] Там же. С. 6–7.
) Чехов выходит за рамки реализма. Он видит в человеке не только социально обусловленное существо, но и познающего субъекта, так или иначе воспринимающего другого человека (другом детства или тайным советником) и определяющего свое отношение к другим людям. Это соответствует призыву Чехова к тому, чтобы человек уважал себя [111] Simmons E.J. Op. cit. P. 28.
, а также его пафосу свободы как призвания человека, о котором свидетельствуют его письма (например: П. 3, 130).
Итак, человек в рассказе представлен как социальное существо, которого воспитание в социуме вынуждает оценивать себя и других исключительно по чину. Весьма оригинальный прием заключается в том, что неспособность героя быть полноценным человеком выражается мотивом сужения не только его тела, но также тел его жены и сына и даже их предметов. Это указывает на единство между душой и телом человека, а также между человеком и окружающей его средой. Противопоставление между социальной ролью и индивидуальностью разрешается здесь однозначно в пользу чина, но на уровне диалога между рассказчиком и читателем смеховое начало дает читателю свободу выбирать, как относиться к данному решению.
1.3. Рассказ «Восклицательный знак»: социальная роль человека и освобождение от нее
Если в рассказе «Смерть чиновника» менталитет чиновника разрушает человека, а в рассказе «Толстый и тонкий» этот менталитет не изменяется, произведение «Восклицательный знак: Святочный рассказ» (1885) в юмористическом ключе рассказывает о том, как человек, до определенной степени освобождаясь от чиновничьего менталитета, обретает внутреннюю свободу.
Фабула рассказа основана на том, что человеку свойственно выражать чувства. Чиновнику Перекладину собеседник говорит, что он ставит знаки препинания «бессознательно» (4, 264). Последовательно Перекладин видит в ночных видениях запятые, точки, точки с запятыми и двоеточия, которые необходимо ставить в официальных документах. На этом фоне в рассказе появляется новеллистический поворот, и возникает вопрос: где ставить восклицательный знак? До сих пор Перекладин никогда не ставил его. В связи с этим герой ощущает, что ему чего-то не хватает. «Он весь обращается в негодование и злобу» (4, 265). Затем, узнав от жены, что с помощью восклицательного знака выражаются чувства, он думает: «Да нешто в бумагах нужны чувства? Их и бесчувственный писать может…» (4, 265). Далее Перекладин видит «рожу юноши-критика» из восклицательного знака, который он представляет, и ему становится плохо (4, 267). Ситуация обиды на собеседника дает Перекладину понять, что на службе он не может вести себя как человек, поскольку там у него нет возможности выразить свои чувства. Он везде видит восклицательные знаки, «и все это говорило ему о восторге, негодовании, гневе…» (4, 268). Когда он едет поздравить своего начальника, то думает: «Пойду сейчас к начальству расписываться… а разве это с чувствами делается? Так, зря… Поздравительная машина…» (4, 268). В конце концов, в тот момент, когда он расписывается, он ставит три восклицательных знака: «Он восторгался, негодовал, радовался, кипел гневом» (4, 268).
Даже если здесь унижение не очень серьезно и глубоко, тем не менее, высказывания собеседника о Перекладине сделаны публично, и они нелицеприятны. Конфликт между Перекладиным и его собеседником (в основном во внутреннем монологе Перекладина) указывает на проблему классовых различий и, тем самым, на социальность человека. По признаку происхождения и образования люди могут быть «критиками» (4, 265) других, стоящих ниже на социальной лестнице, а те вынуждены вести себя «кротко» (4, 265). Помимо того, конфликт демонстрирует, что чиновники невысокого чина вынуждены исполнять чисто «машинальную» работу (4, 264–265). Но в финале рассказа, ставя восклицательные знаки, по крайней мере на один миг «маленький человек» Перекладин выходит за рамки своего положения, преодолевая свою кротость, и показывает, что он не машина. Это подчеркивают его финальные слова: «На тебе! На тебе!» (4, 268). Важную роль в рассказе играет расширение языковых возможностей главного героя. Впервые ставя восклицательные знаки, Перекладин преодолевает состояние «пишущей машины» (4, 267) и приобретает возможность выразить свои чувства. По мнению Чехова, это показывает, что человек часто ведет себя как машина, но у него есть возможности изменить свое поведение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: