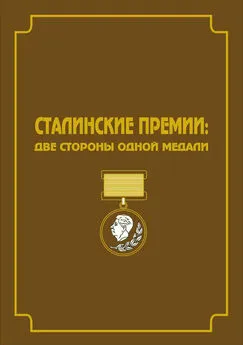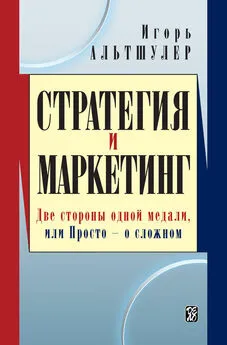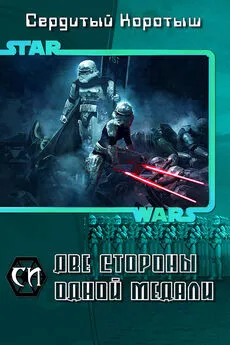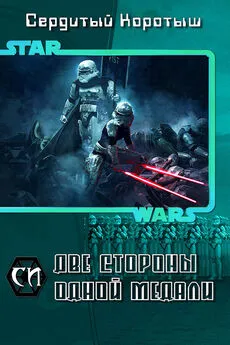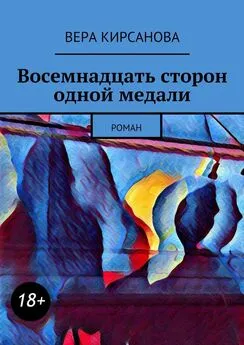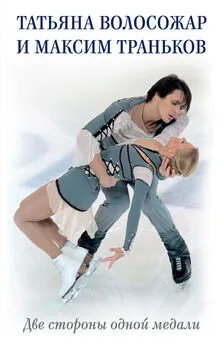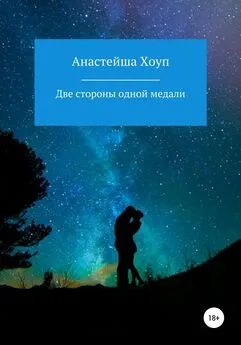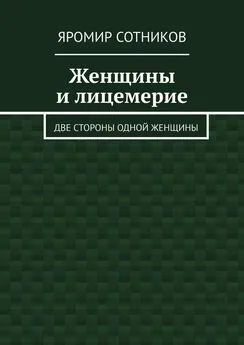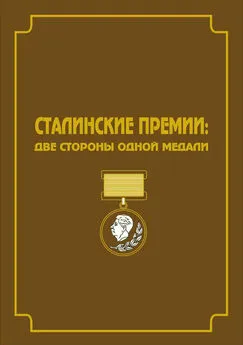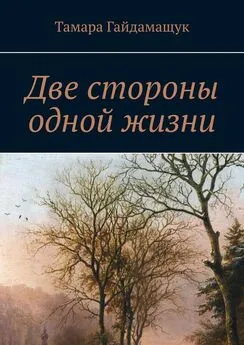Владимир Свиньин - Сталинские премии. Две стороны одной медали
- Название:Сталинские премии. Две стороны одной медали
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Свиньин и сыновья»
- Год:2007
- Город:Новосибирск
- ISBN:978-5-98502-050-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Свиньин - Сталинские премии. Две стороны одной медали краткое содержание
Сталинские премии. Две стороны одной медали - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В 1930 году Мухина была арестована и сослана (правда, всего на год) за попытку побега за границу, но это не помешало ей уже через несколько лет оказаться в числе любимых скульпторов Сталина. Высоко оценив ее «Рабочего и колхозницу», вождь защитил Мухину от потенциально летальных обвинений в том, что в развевающихся складках одежды этой скульптурной пары она зловредно спрятала изображение врага Советского Союза Льва Троцкого.
Всего за свою жизнь (она умерла в 1953 году, пережив Сталина на семь месяцев) Мухина получила пять Сталинских премий, но так и не вылепила обязательного изображения самого вождя. Когда ей предложили это сделать, Мухина, играя роль принципиального реалиста, поставила условие: Сталин должен позировать ей лично. Но от этого вождь отказался. (По рассказам, так же отвертелся от выполнения сталинского портрета художник Петр Кончаловский.)
Трудно было сыскать большую противоположность суровой, но справедливой Мухиной, чем получивший одновременно с ней Сталинскую премию первой степени за свою картину «Сталин и Ворошилов в Кремле» (в кругу художников ее прозвали «Два вождя после дождя») живописец Александр Герасимов, о котором большинство мемуаристов вспоминает как о циничном оппортунисте. Герасимов всегда подчеркивал, что родился в семье крестьянина из крепостных: в советском обществе это давало ему существенное преимущество перед «социально чуждой» купеческой дочкой Мухиной. Преклонявшийся перед французскими импрессионистами, чьей манере он рабски следовал в молодости, Герасимов стал публично поносить их как декадентов и формалистов в тот самый момент, когда на этот счет была спущена соответствующая директива сверху.
Плотный кучерявый матерщинник с фатоватыми тонкими усиками, Герасимов «для себя» с удовольствием писал полупорнографические жанровые сценки под скромными названиями, вроде «В деревенской бане», в то время как по стране миллионными тиражами расходились репродукции с его парадных портретов Ленина, Сталина и маршала Климента Ворошилова, советского наркома обороны, покровителя и даже друга Герасимова (заглядывавшего иногда в мастерскую художника, чтобы полюбоваться на изображение очередной обнаженной дородной красавицы).
Возглавив в качестве президента созданную в 1947 году (в подражание дореволюционной традиции) Академию художеств СССР, Герасимов стал «главным художником» страны и символом соцреализма в искусстве, получая от правительства бешеные деньги за производившиеся в его мастерской огромные многофигурные официальные полотна, но при этом в своем государственном лимузине с шофером водружал на заднем сидении гору сена, наглядно демонстрируя таким образом неразрывную связь со своим простонародным прошлым.
Герасимов был колоритной фигурой, но картины его, некогда удостоенные множества наград (в том числе четырех Сталинских премий, а также золотых медалей на Всемирных выставках в Париже и Брюсселе) в наше время почти единодушно оцениваются как художественно неинтересные: стандартно академические по композиции и невыразительные по живописной фактуре. Так же уничижительно отзываются современные художественные критики и о других корифеях соцреализма, хотя среди них были и подлинные живописные виртуозы, вроде одного из любимых учеников самого Репина – Исаака Бродского, а также Василия Ефанова и Александра Лактионова.
Но можно ли вообще судить о полотнах Герасимова и его соцреалистических коллег, исходя из чисто художественных критериев, основанных на эстетике западного авангарда последних ста лет, и почти полностью игнорируя социальные функции этих произведений в рамках сталинского общества?
Подобные асоциальные методы оценки еще некоторое время назад применялись также к культурным артефактам неевропейской традиции – к скульптурам и маскам из Азии, Африки и Океании. Все это были практически без исключения ритуальные предметы, ценившиеся своими народами и племенами в первую очередь за их социальную полезность, а не художественные достоинства. На Западе же эти артефакты рассматривались через призму господствующей модернистской эстетики – то, что к ней приближалось, получало более высокие оценки, остальное трактовалось как менее «интересное», а значит, и менее художественно ценное. Теперь многие полагают, что это был ошибочный взгляд.
Искусство сталинской эпохи тоже, видимо, следует трактовать как в значительной степени ритуальное. В этом смысле у соцреализма можно обнаружить интригующие корни (на что недавно стали обращать внимание исследователи советского искусства на Западе и в России). У истоков соцреализма стояли Горький и Луначарский, до революции увлекавшиеся так называемым «богостроительством» (за что их жестоко ругал Ленин), а в жизнь лозунг соцреализма продвинул Сталин, бывший семинарист. И Луначарский, и Горький охотно рассуждали о магическом влиянии искусства на человеческое поведение. Сталин вслух об этом не говорил, но несомненно ощущал магическую силу искусства как нечто реальное; это подметил еще Осип Мандельштам, глубоко понимавший психологию вождя (о чем свидетельствует его гениальная стихотворная «сталинская» «Ода»): «Это у него (Сталина) вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить…»
Горькому соцреализм представлялся инструментом, способствующим «возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир». Горький эвфемистически говорит здесь о ритуальной, магической роли соцреализма. Луначарский был более откровенным: «Советское искусство ничем существенным не отличается от религиозного…»
Сталин избегал, как всегда, чересчур откровенных деклараций (на то он и был профессиональным политиком), настойчиво подталкивая советскую культуру к исполнению квазирелигиозных функций: романы должны были исполнять роль житий святых, пьесы и кинофильмы – религиозных мистерий, картины – икон. Надо всем этим царил культ покойного Ленина как Бога-отца, со Сталиным в роли сына. При этом Ленин, а впоследствии, после смерти, и Сталин демонстрировались народу в специально построенном в центре столицы, на Красной площади, мавзолее в забальзамированном виде – как нетленные мощи коммунистических святых.
Этой же цели служили архитектурные сооружения сталинской эпохи. Даже подземка, в западных городах строившаяся в первую очередь с учетом ее утилитарных функций, в Москве была превращена в некий секулярный храм, обязательная демонстрация которого иностранцам должна была вызывать у них – как и у советских граждан – приступ ритуального восторга. Известна реакция на это «подземное чудо» антиклерикалиста и скептика Андре Мальро: «Un peu trop de metro» («многовато метро»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: