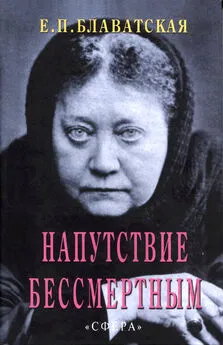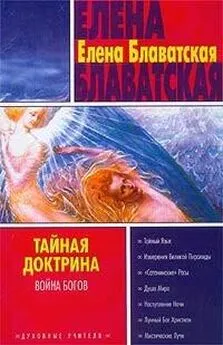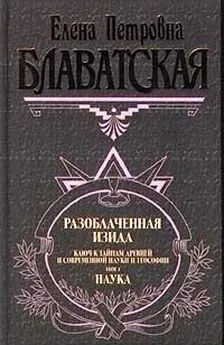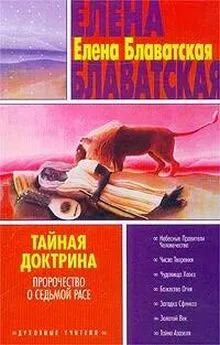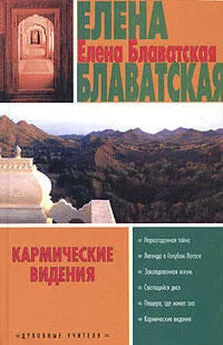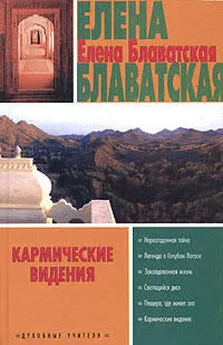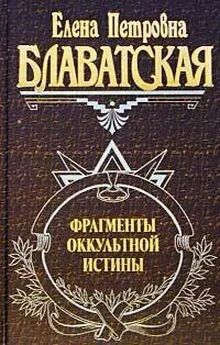Елена Блаватская - Напутствие бессмертным
- Название:Напутствие бессмертным
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сфера
- Год:2007
- ISBN:978-5-91269-004-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Блаватская - Напутствие бессмертным краткое содержание
Напутствие бессмертным - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, выбранное в качестве «козла отпущения» Теософское Общество может даже гордиться, слыша у себя за спиною хорошо знакомый клич: «Хватайте кошку!» Он уже давно перестал беспокоить свою жертву, и теперь мы даже рады слышать его, поскольку для нашего дела это, безусловно, добрый и обнадеживающий знак. Осуждение ложится на плечи обвиняемого тяжким моральным грузом, только когда оно заслужено, но если осуждение явно несправедливо, оно лишь указывает на то, что у «обвиняемого» есть нечто такое, чего недостает самим обвинителям. Пожалуй, именно числом врагов и степенью их ожесточенности можно определить истинную ценность и меру достоинств тех, кого они с удовольствием стерли бы с лица земли, если бы только могли. Поэтому уместно будет завершить наш очерк следующим высказыванием старого Аддисона:
Один остроумный автор сказал, что осуждение — это пошлина, которую человек платит обществу за свою известность. Для человека известного было бы глупостью надеяться, что ему удастся избежать осуждения, и слабостью — расстраиваться из-за него. Каждому сколько-нибудь знаменитому человеку древности, как, впрочем, и всех последующих столетий, пришлось пройти через преследования. От общественного осуждения есть только одно средство — безвестность, ибо первое является таким же неотъемлемым спутником популярности, как сатиры и обличительные речи для римского триумфа.
Дорогие, добрые враги «татарской фурии», если бы вы только знали, как много вы сделали и делаете для приумножения ее известности и величия!
Восьмое чудо
[Очерк «Непопулярного философа», написан в 1889 г.]
Совсем недавно мне довелось погулять в долговязой тени восьмого чуда света — гигантской железной морковки, известной под именем Эйфелевой башни. Настоящее дитя своего века: исполинская по своим размерам, совершенно бесполезная и такая же неустойчивая и зыбкая, как и республиканская почва, на которой она возведена. И к тому же не несущая никакой моральной нагрузки, в отличие от семи своих предшественников: ни малейшего атавистического пережитка, которым она могла бы гордиться. В плане полезности этот архитектурный Левиафан 1889 года уступает даже нью-йоркской статуе Свободы — этой предполагаемой сопернице древнего Фароса. Сей монумент является одним из поганых грибов современного предпринимательства, выросшим на почве лукавой спекуляции, чтобы притягивать к себе полчища мух в виде туристов со всех четырех стран света. И с этой задачей башня вполне добросовестно справляется. Даже великолепное инженерное решение ни на йоту не добавляет ей полезности. И даже «непопулярный философ», глядя на нее, не может сдержать восклицания: « Vanitas vanitatum; omnia vanitas ». Так есть ли теперь у современной цивилизации моральное право задирать нос и насмехаться над ее древней, старшей сестрой? [85]
Чудеса света — семь языческих шедевров — в настоящее время вне конкуренции. Почитатели месье де Лессепса [86]могут сколько угодно строить недовольные гримасы, оглядываясь назад, на эстакаду, построенную Дексифаном за три столетия до нашей самодовольной эры, — астральные атомы самого Дексифана и его сына Сострата из Книда [87]могут пребывать в полном покое, не терзаясь ощущением зависти. Архитектура мраморной башни Фароса, возведенной в честь «богов, Спасителей, для блага моряков», по сей день остается непревзойденной; во всяком случае, в плане общественного блага. И даже установление на Лонг-Айленде статуи Свободы ни в коей мере не умаляет справедливости этого утверждения.
Все чудеса нашего времени остаются только снами, а то и кошмарами, а в будущем столетии, которое уже не за горами, и вовсе превратятся в призраки. Все это вскоре пройдет и бесследно исчезнет. Завтра или послезавтра в Египте могут случиться сейсмические возмущения, земля «разверзнется» и проглотит воды Суэцкого канала, превратив его в непроходимое болото. Какой-нибудь terremotos , или, того хуже, succussatore , как их называют в Южной Америке, может приподнять Лонг-Айленд вместе с его «Свободой» и зашвырнуть их на добрую сотню футов в воздух, чтобы сбросить оттуда в водную могилу, навсегда похоронив под толщей неисчислимых соленых слез Атлантического океана. Кто знает? « Non deus praevidet tantum sed et divini ingenii viri » [88], — говорит лукавый Цицерон в своем трактате «De divinatione», посвященном космическим феноменам. То же самое может грозить и бывшей Лютеции — нынешнему Парижу или же нашим Британским островам. Нет, никогда Бог не предсказывал появление божественного интеллекта у человека; однозначно — никогда. И чувства Цицерона тоже не изменились бы, если бы он прочел в свое время «War Cry» или же встретился с парочкой адвентистов. А что стало бы с Цицероном, если бы он встретился с современным материалистом? Как бы он себя чувствовал? — спрашиваю я себя. Признал ли бы он, что озадачен, или же сказал бы, как сказал Иов новому философу, своему гонителю: «Не Ты ли вылил меня [современную мудрость], как молоко, и, как творог, сгустил меня [ее]» [Иов, X, 10], чтобы дать нам понять, что он имеет в виду?
Где вы, о реликвии былой языческой славы! Следует ли нам искать вас в солярных мифах или же тешить себя надеждой увидеть перевоплощение висячих садов Вавилона в стеклянном и железном ките с двумя гигантскими стеклянными зонтиками, именуемом «Хрустальным дворцом» Кристал-Паллас? Мы гоним от себя эту кощунственную мысль! Так что беспокойный призрак надменной Семирамиды (если таковой еще существует) может по-прежнему любоваться собственным творением в астральной галерее нетленных образов, называя его «непревзойденным». И Мавзолей в Артемисии по-прежнему затмевает гордые храмы, посвященные «богам фондовой биржи, — истребителям совместного капитала».
Эфесский храм Дианы, есть ли на свете святилище, которое могло бы сравниться с тобою в поэтичности?! Современные статуи, конные или пешие, заполонившие ныне залы Французской выставки, есть ли среди вас хотя бы одна, способная повергнуть в краску астральный фантом Олимпийского Юпитера, работы Фидия? Кому из скульпторов или художников нашей гордой эры современный Филипп из Фессалоники мог бы адресовать свои слова, посвященные богоподобному греческому ваятелю: «О Фидий, либо Бог спустился с небес на землю, чтобы явить тебе свой облик, либо ты вознесся в небеса, чтобы лицезреть Бога!»
«Несомненно лишь то, что мы — (не) люди и что Мудрость (не) родилась с нами». И не умрет с нами, — можем добавить мы.
Длинные ряды керамики и бронзы, хитроумного оружия, игрушек, обуви и прочих вещей ежедневно предстают перед глазами восхищенной публики в павильонах Парижской выставки. Но «непопулярный философ», не колеблясь, променял бы их на возможность хоть одним глазком взглянуть на коллекцию м-ра Флиндерса Петри [89], выставленную ныне в Оксфордских корпусах. Эти уникальные сокровища совсем недавно были извлечены из-под земли в ходе раскопок в Кахуне и датированы периодом двенадцатой династии. Если сравнивать индустрию XIX века н. э. и XXVI века до н. э. (принимая, во избежание ненужных дискуссий, хронологию современных антикваров и землекопов), то пальму первенства следует присудить последней, и обоснованность этого решения легко доказать. Уникальность всего этого оружия, домашней и сельскохозяйственной утвари, иноземных мер весов, ожерелий, игрушек, цветных нитей, ткани и обуви, выставленных ныне на обозрение, состоит в том, что они переносят нас в прошлое, во времена Еноха и Мафусаила, если верить библейской хронологии. Все эти экспонаты относятся, как нам говорят, к двенадцатой династии, правившей, согласно вычислениям археологов, за 2600 лет до н. э.; то есть по ним мы можем судить, какую обувь носили за 250 лет до потопа. Сама мысль о возможности поглазеть на сандалии, которые, возможно, свалились с ног первого гроссмейстера и основателя масонства, Еноха, в тот момент, когда «Бог взял его», должна наполнять благоговейным восторгом сердце каждого масона, верящего в книгу «Бытие». Каким жалким и малозначительным представляется удовольствие обонять запах юфти в обувном павильоне Парижской выставки перед лицом этой грандиозной возможности! Ни один истинный масон, верящий в «благочестивого Еноха, первенца Каина-Сифа-Иареда», Ханоха-Посвятителя, не должен стремиться сейчас в веселый Париж, имея под рукою такое сокровище.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: