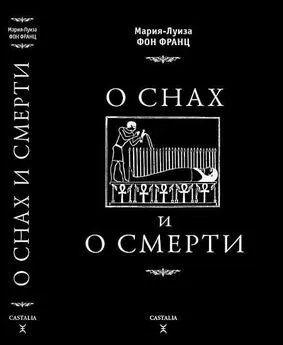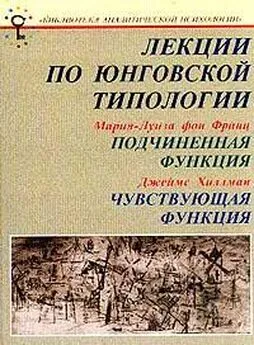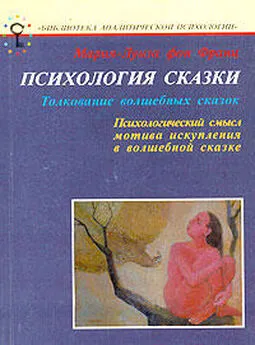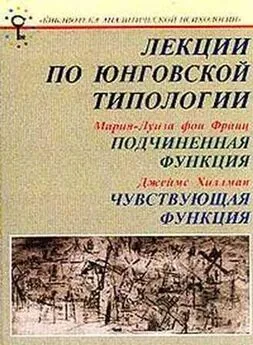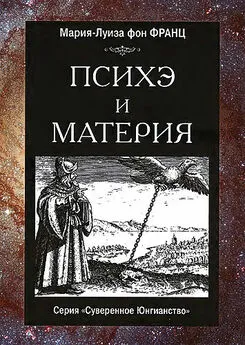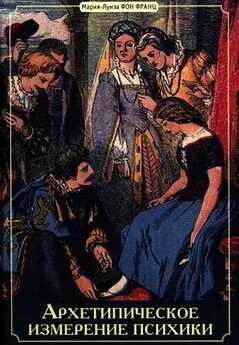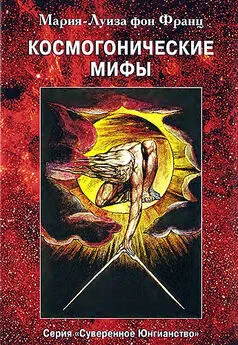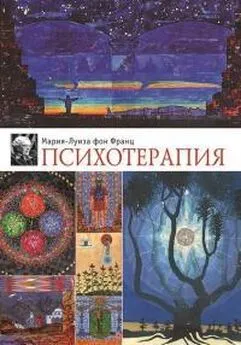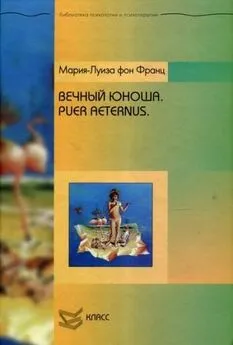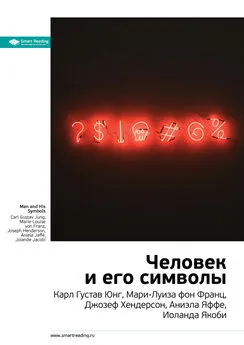Мария-Луиза фон Франц - О снах и о смерти
- Название:О снах и о смерти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:'Клуб Касталия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария-Луиза фон Франц - О снах и о смерти краткое содержание
Последовательница Карла Юнга, Мария-Луиза посвятила жизнь анализу сновидений, изучению бессознательного, механизмов его проявления в жизни человека… В книге она фокусируется на взаимосвязи сновидений и околосмертных переживаний/мыслей о смерти. В связи с этим исследуется огромный материал мифов и легенд различных народов, выборка сновидений людей при смерти/тяжелобольных/внезапно умерших. Автор выделяет основные символы смерти во сне и механизмы развития сновидения (сценарии), представленные в итоге как "шифровки" человеческого бессознательного, в которых заключена основная мысль: смерти нет. Во всяком случае, как бесповортного конца. Бессознательное через сны посылает основной сигнал: часть нас продолжит жить и после смерти тела.
В последней части книги этот вывод изящно дополняется научными исследованиями в области теории волн. Проскальзывает яркий образ приёмника: человек, настроенный на одну волну-вибрацию, после смерти просто перестраивается, но не исчезает.
Что ж, фактологический материал книги обширен, так что она не выглядит как слепая попытка психзащиты перед грядущим уходом автора из жизни.
Советую прочитать, внимательно, вдумчиво. Книга, на самом деле, довольно оптимистична (несмотря на несколько мрачное название). Определённо, как одна из точек зрения на главное событие жизни человека — его уход — книга достойна быть изученной и обдуманной.
[
] —
О снах и о смерти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Далее в этом исследовании будут приводиться сны, в которых ясно изображается конец телесной жизни, но одновременно с этим содержатся утверждения — как в сне выше — которые указывают на последующую жизнь. В связи с этим, Юнг делает акцент на том, что для человека в возрасте крайне необходимым моментом является знакомство с возможностью смерти.
Перед ним ставится категоричный вопрос, и долг человека — ответить на него. К моменту непосредственного конца он уже должен иметь миф о смерти, так как рассудок не дает ему ничего кроме темной ямы, в которую он спускается. Миф же может вызвать в его воображении другие образы, помогающие и обогащающие картины жизни в стране мертвых. Если он в них верит, или приветствует их с некоторой долей доверия, он так же прав или не прав, как и тот, кто в них не верит. Но тогда как один из них отчаянно марширует в направлении ничто, тот, кто вложил свою веру в архетип, следует пути жизни и живет ровно до момента смерти. По правде говоря, оба остаются в неопределенности, но один живет против своих инстинктов, а другой живет с ними.[4]
В последующем материале я прокомментирую архетипические сны о смерти и дополню их символизмом египетских ритуалов смерти и соотносящимся с ними алхимическим символизмом — потому что в общей официальной христианской концепции о жизни после смерти преобладает невероятный пробел. Действительно, христианство говорит о бессмертии души и возрождении тела; но предполагается, что последнее произойдет в конце света через акт божьей милости, обновляющий старое тело. Это мистерия, в которую предполагается ‘верить’. Нет никаких указаний на то, ‘как’ должно возникнуть чудо.
В своем стремлении представить христианство как нечто новое и предпочтительное в сравнении с другими современными религиями, многие теологи[5] пытаются преувеличить конкретный исторический аспект, говоря не только о жизни Иисуса, но и о его возрождении. Они отрицают все связи с такими умирающими и возрождающимися богами античности как Аттис, Адонис, Осирис, и критикуют языческие религии за недостаток ясности, неопределенность и прочее. Фридрих Нетчер, например, делает акцент на размытость ближневосточных и египетских идей о жизни после смерти и обесценивает многие концепции Старого Завета, даже принижая их до простых фигур речи[6]. Результатом такого отношения становится великое обнищание символа. Небиблейские религии поздней античности определенно могут содержать размытость и бесспорные противоречия; тем не менее, их достоинством является выражение богатого мира, изображающего смерть, перерождение и послесмертную жизнь — архетипические образы, которые также вполне спонтанно воспроизводит душа современного человека. Более того, существует другое различие между такими спонтанными продуктами бессознательного и официальным христианским учением. В последнем, человек находится в совершенно пассивном состоянии, один на один с явлением перерождения; чистый акт божьей милости возвращает ему его тело. В алхимической традиции, с другой стороны, адепт через алхимическую работу, опус (который тоже, как считается, может быть успешно завершен только по божьей милости), создает свое собственное перерожденное тело на протяжении всей жизни. Предполагается, что некоторые восточные методы медитации также помогают в создании ‘алмазного тела’, которое живет и после физической смерти.
Сегодня, тем не менее, многие современные теологи обеих христианских конфессий отошли от конкретных воззрений ранних христианских времен. Для них воскрешение стало ‘постоянным ожиданием’; и так как линейное, историческое время останавливается со смертью, со Страшным Судом, это воскрешение может пониматься как нечто имеющее место сразу после смерти.[7] Или, как выражается Карл Ранер, после смерти человек становится ‘всекосмичным’ и переходит в онтологическую prima materia вселенной, где он встречается с Христом, как ‘Властелином Мира’.[8] С такой точки зрения, воскрешение больше не является воссозданием тела, но продленным существованием субъекта в духовном теле или в чем-то вроде ‘материи, обращенной вовнутрь’.[9] Такой процесс интериоризации материи или земного существования легко превращается в постулат. Напротив, древние алхимики снова и снова пытались эмпирически проникнуть в тайну жизни после смерти, создавая мифические символы, которые поразительно напоминают сны — спонтанные проявления бессознательного — современных людей.
Во введении к Психологии и Алхимии Юнг описывает как развитие мотивов в алхимической традиции компенсирует преимущественно одностороннее развитие духовной ориентации христианства:
«Алхимия скорее похожа на подводное течение христианства, которое было ведущим лишь на поверхности. Для этой поверхности она как сон для сознания, и так как сон компенсирует конфликты сознательного разума, так и алхимия стремится восполнить пробелы, оставленные христианским напряжением противоположностей… Исторический сдвиг в мировом сознании в сторону маскулинного компенсируется хтонической фемининностью бессознательного. В некоторых дохристианских религиях мужской принцип был уже дифференцирован в принцип отец-сын — это перемена, которая имела крайнюю важность для христианства. Будь бессознательное лишь дополнительным элементом, эта перемена в сознании сопровождалась бы появлением матери и дочери, необходимый материал для которых находится в мифе о Деметре и Персефоне. Но, как показывает алхимия, бессознательное предпочло развитие по аналогии с мифом о Кибеле и Аттисе, в форме prima materia и filius macrocosmi, доказывая тем, что оно не дополняет, но компенсирует.[10]»
Наша нынешняя неопределенность по поводу смерти это та сфера, где также протекает этот процесс компенсации; потому что христианство, с его принципиальным акцентом на духе, уделяло мало внимания дальнейшей участи мертвого тела и настаивало в своей догме на чуде, с помощью которого бог воссоздаст тело в конце света. Но, как мы увидим в материале, представленном в 1 главе, во многих культурах архаичный языческий человек интенсивно размышлял о значении тела и его разложении после смерти, предполагая, что существует «мистерия» внутри трупа, загадка, связанная с судьбой души после смерти. Алхимики также предполагали, что эта «мистерия» происходила внутри prima materia, или в «тонком теле», исследование которой их интересовало больше, чем ощутимая материя. Они полагали, что эликсир жизни и секрет бессмертия был неким образом сокрыт в «тонком теле», которое они пытались отфильтровать от осязаемых материальных субстанций.
Исследования Анри Корбена показали, что ситуация как в случае с христианством, преобладает и в исламе. Нищета идеи воскресения у суннитов компенсируется богатым символизмом некоторых шиитских мистиков, практически все из которых проявляют в себе связи с ранней греко-египетской алхимией и гностицизмом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: