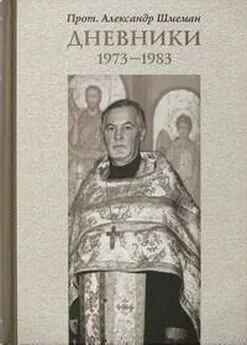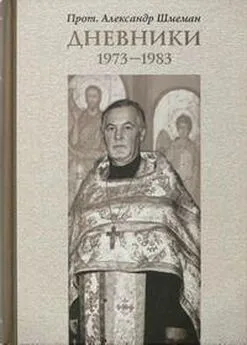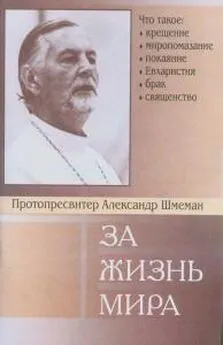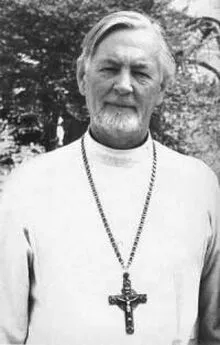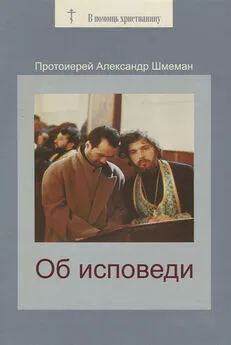Александр Шмеман - Введение в богословие
- Название:Введение в богословие
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:© Православный Свято-Сергиевский Богословский Институт
- Год:1993
- Город:Париж
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шмеман - Введение в богословие краткое содержание
Курс лекций по догматическому богословию 1949-1950 гг.
Введение в богословие - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вот первое, что мы встречаем по этому поводу в Деяниях апостолов: возвращавшийся из Иерусалима вельможа, сидя на своей колеснице, читал пророка Исаию. Апостол Филипп, который встретился ему по дороге, благодаря промыслу Божьему, спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?» и объяснил ему место из Писания, которое читал тот человек, благовествуя таким образом ему о Христе. Когда, продолжая путь, они приехали к воде, эфиопский евнух (а читающий был им) сказал: «Вот вода; что препятствует мне креститься?» Филипп ответил ему: «Если веруешь от всего сердца, можно». Вельможа сказал: «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И Филипп крестил его (Деян. 8:26-40). Слова вельможи, «мужа ефиоплянина», являются, таким образом, уже жизненным исповеданием, кратким символом веры.
Раннее богословие имело свои крещальные символы. Для евреев Иисус был Мессия, для язычников — Бог. Чтобы стать христианином, от человека, иудея или эллина, требовалось признание одного или другого; Церковь никогда не обходилась без элементарного богословия (т. е. без самого основного: «элементарное» мы употребляем здесь во французском понимании: element как составляющее основу чего-то).
Слово «Господь» как символ. Если одна часть христиан в раннюю эпоху придерживалась иудейских традиций, то другая была разбросана в греко-римском мире. Мир этот стал гнать христианство, и одной из причин, в данном случае, явилось христианское понятие «Кириос», т. е. «Господь». В этом слове было заключено некое исповедание. Римская власть в целом была терпима к другим имевшимся на территории империи религиям. Единственное, чего она требовала от своих подданных — это признания цезаря Господом. Поэтому, когда престарелого Поликарпа Смирнского привели на форум, от него требовали лишь: «Скажи, что цезарь — «Кириос». Слово «Кириос» имело до II в. в христианстве совершенно особый религиозный смысл. «Господом» назывался тот хозяин, с которым человек был пожизненно связан и которому служил до смерти. Исходя из этого надо понимать и слова Христа: «Никто не может служить двум господам» (Мф. 6:24). «Кириос» писалось в катакомбах во время гонений, как имевшее этот особый смысл. Когда власть стала обожествлять императора, и он стал «Кириос», «имеющий власть», христиане должны были особенно против этого насторожиться. Ибо с принятием христианства и крещением они переходили в новое «подданство» («Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса» — Деян. 2:36). Это новое подданство обязывало их оставить все прежние привязанности, существовавшие до сих пор в их жизни, или допускать таковые постольку, поскольку они не противоречат ему. И если Римская власть, будучи религиозно терпимой, требовала лишь поклонения императору, то христиане в этом отношении как раз и не могли быть терпимы, т. к. для них Господство, Церковь, Христос были реальными. Не понявший истины о том, что Христос пришел разрушить державу дьявола, не мог быть христианином и становился изменником.
Теперь мы не придаем того значения словам, какое придавали им в те времена. Сегодня, когда священник произносит: «Благословенно Царство», мы переносим Царство в другой, загробный мир, который наступит после нашей смерти. В древние же времена все слова, все знаки были реальны и за слово «Царство», за эту весть о нем христиане умирали. Стать христианином значило перейти из одного мира в другой. Мы не чувствуем реальности вещей мира сего, т. к. на них не стоит особого знака. Мы можем ходить на базар, покупать любые вещи, читать любые книги (допустим, произведения Сартра), потому что на них не стоит антихристианского знака. Но первохристианин не мог пойти в баню с язычниками или на базар, где продавалась окропленная идоложертвенной кровью пища. Он как бы вычеркивался из жизни этого мира, он действительно принимал другое подданство.
Итак, слово «Господь», как крещальный символ, с самого начала входило в жизнь христианина. Это слово — такой же источник богословия, как и слово «Христос». И если первый источник богословия есть крещение, то исповедание Господа тоже огромное богословие.
Богословие стало развиваться по-настоящему, когда началась борьба с ересями. Можно жить одним знаком рыбы, глубокий смысл которого: Иисус есть Христос, Сын Божий, Спаситель. Можно жить одним словом «Господь», также содержащим в себе огромную богословскую глубину. Зачем же Церковь создавала еще и громоздкие системы богословия? Они понадобились тогда, когда Церковь должна была оградить себя от всех тех ядов, которые начали проникать в нее из языческого мира. Это не было абстрактной защитой, как теперь, когда у нас проходят богословские споры. Вспомним недавний спор о богословии о. Сергия Булгакова: он тоже носил абстрактный характер, спорящие не указывали, что именно губительно в данном богословии. А в первые века Церковь защищала от ядов не некую теоретическую истину, а самую сущность веры.
Одной из первых ересей был докетизм, учение о призрачности Христа как человека. Эта ересь опиралась на слова Св. Писания о том, что Спаситель «принял образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек» (Флп. 2:7). Но, возражал на это Игнатий Антиохийский, если Христос не был человеком, то зачем же страдаю я? В том и сладость, продолжает он, что Христос был человеком. «Сладость — в том, что Он Эммануил, «с нами Бог» (Игнатий Антиохийский. Послание к Римлянам). Для такого человека, как св. Игнатий, Христос действительно был Эммануил, он чувствовал Спасителя в своей плоти и крови, а потому и защищал всей своей жизнью.
Так защищала Церковь саму себя — кровью святых мучеников. «Где сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лк. 12:34). Это и создало силу отеческого богословия.
Итак, богословие основывается на самой вере в Церковь, которая есть не просто вера, утверждающая бытие Божие, — она утверждает факты, бывшие в истории. Из этой веры вырастает сложное и многоветвистое дерево, называющееся богословием. Одной из главных причин, заставивших Церковь изложить эти свои утверждения, была борьба с ересями. Но чем она их обосновывала? С самого начала своего существования Церковь обладала Ветхим Заветом, на который ссылались и Сам Христос, и апостолы. Первое время она вообще была сектой внутри иудейства. «Исследуйте Писания», — говорит Христос (Ин. 5:39). Сейчас перед нами снова стоит проблема Ветхого Завета.
Перерыв, когда христианское сознание отошло от традиции, закончился, и христиане всех исповеданий вновь обращаются к Ветхому Завету. В наших современных учебниках по богословию нет, например, объяснений того, как пророчество о Святой Троице связано с явлением трех ангелов Аврааму; история Ноя часто излагается лишь в качестве морального поучения; образ трех отроков в печи приводится только как пример веры. А между тем, Христос и апостолы свое дело понимали в свете Ветхого Завета: «Исследуйте Писания... а они свидетельствуют о Мне» (Ин. 5:39). Под Писаниями здесь подразумевается Ветхий Завет. Христос был его исполнителем, совершителем, увенчанием. И то, что Иисус был Мессия, нельзя понять вне Ветхого Завета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: