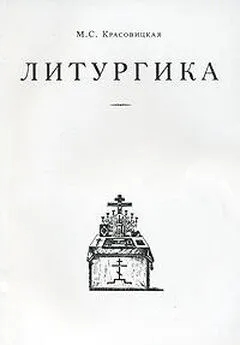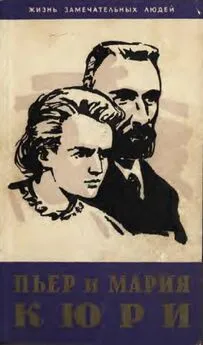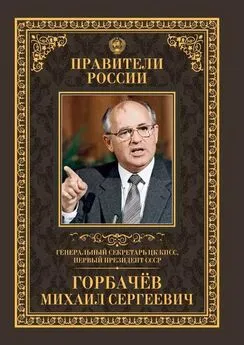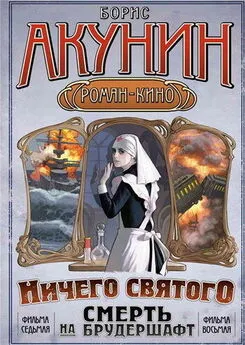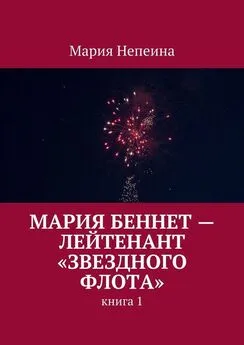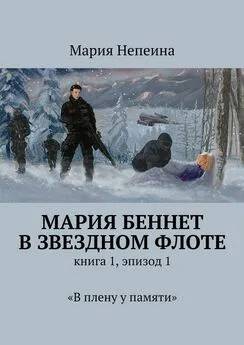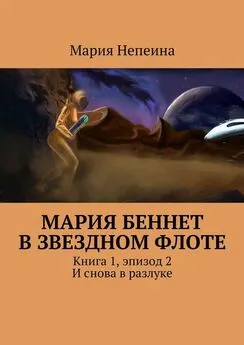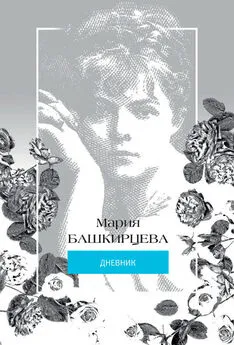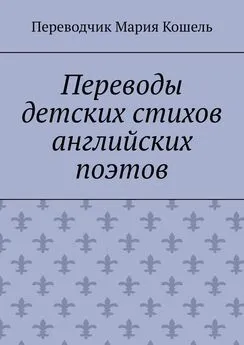Мария Красовицкая - Литургика
- Название:Литургика
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт.
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-7429-0134-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мария Красовицкая - Литургика краткое содержание
Мария Сергеевна Красовицкая, ур. Шведова, преподаватель института о. Вл. Воробьева ("Свято-Тихоновский"), муж Илья, регент у о. Дм. Смирнова. Выпускники регентских курсов (Красовицкая в 1990-м году). Пятеро детей. Лекции изданы: Москва: Православный Свято-Тихоновский Богословский Институт, 1999.
Литургика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Богослужебная часть Евергетидского типикона (Евергетидский синаксарь) во многих случаях последовательно совпадает с различными уставами студийской традиции (Типиконом патриарха Алексия Студита, южно-итальянскими типиконами, Синаксарем Георгия Мтацминдели), что указывает на зависимость Евергетидского синаксаря от Студийского синаксаря. При этом между ктиторским типиконом Евергетидского монастыря и дисциплинарными текстами студийского происхождения такие совпадения отсутствуют.
Отличительной особенностью Евергетидского синаксаря является особое окончание праздничной и воскресной утрени, в котором утренние стихиры на стиховне присоединялись к стихирам на Хвалите , а после сугубой ектении сразу же следовала просительная ектения (в древней палестинской традиции, а также в богослужении Студийского монастыря утренние стихиры на стиховне никогда не присоединялись к стихирам на Хвалите ). Такое окончание было обусловлено пением Трисвятого непосредственно после утреннего гимна Слава в вышних Богу , что в литургической традиции II тысячелетия известно под названием «великое славословие».
Данное изменение окончания утрени было обусловлено влиянием константинопольского богослужения кафедрального обряда, где пение Слава в вышних Богу и следовавшего за ним Трисвятого было одним из наиболее торжественных моментов праздничного и воскресного утреннего богослужения, с которым был связан вход духовенства в алтарь, после чего читалось утреннее Евангелие, следовали ектении и отпуст [ 36]. В иерусалимском кафедральном богослужении пение Слава в вышних Богу также было связано со входом в алтарь, но здесь пели только две части утреннего гимна ( Слава в Вышних и Господи, прибежище до ведущим Тя ), после чего следовало чтение утреннего Евангелия, после которого пелось Сподоби, Господи [ 37].
Именно такой порядок частей утреннего гимна ( Слава в вышних Богу; Господи, прибежище; Сподоби, Господи ), совпадающий с порядком частей в славословии на непраздничной утрени и на Великом повечерии согласно современному Часослову, зафиксирован в палестинской Псалтири 862 года [ 38], относящейся к Псалтирям иерусалимского типа [ 39]. Назовем этот тип утреннего гимна иерусалимским . В Хлудовской же Псалтири IX века, связанной с константинопольским кафедральным богослужением и относящейся к Псалтирям константинопольского типа [ 40], части утреннего гимна следуют в порядке, совпадающем с порядком частей славословия на праздничной утрени согласно современному Часослову ( Слава в вышних Богу; Сподоби, Господи; Господи, прибежище ) [ 41]. Назовем этот тип утреннего гимна константинопольским .
Особый характер литургической традиции Евергетидского монастыря придавали элементы палестинского происхождения. Например, в Евергетидском синаксаре неоднократно упоминается пение Полиелея в воскресные и праздничные дни [ 42] или же пение XVII кафизмы ( Непорочны ) с особыми воскресными тропарями, которые впервые встречаются в Иерусалимской Святогробском типиконе [ 43]. К традициям палестинского монашества восходит и особая «агрипния» («паннухис»), совершавшаяся накануне воскресных и праздничных дней, упоминания о которой имеются как в Евергетидском синаксаре, так и в VIII главе ктиторского типикона [ 44]. Тем не менее тексты молитвословий монастырской «паннухис» указывают на их заимствование из константинопольского богослужения кафедрального обряда [ 45].
Наличие в Евергетидском синаксаре различных элементов палестинского происхождения, с одной стороны, а также Благовещенских глав, происходящих с Вифинского Олимпа [ 46], с другой стороны, указывает на тесную связь Евергетидского синаксаря с литургической традицией Малой Азии, которая занимала промежуточное положение между Константинополем и Палестиной.
Афоно-Студийский типикон.
Достаточно рано студийская традиция была перенесена на Афон. Уже преподобный Афанасий Афонский ориентировался на нее при создании Великой лавры (963 год) и устроении в ней монастырской жизни, о чем свидетельствует и установление киновиального строя, и использование Ипотипосиса в качестве основы для Диатипосиса, составленного создателем знаменитой афонской киновии [ 47].
В основе богослужебного устава, существовавшего на Афоне в последней трети X–XII столетиях, лежал Студийский синаксарь. Греческие списки Афоно-Студийского типикона не сохранились, однако южно-итальянские типиконы (см. ниже), Синаксарь Георгия Мтацминдели [ 48] и пространные уставные рубрики, имеющиеся в болгарских богослужебных книгах XIII века (Аргирова триодь, Скопльская минея, Апостол-882) [ 49], позволяют указать три его отличительные черты.
Первая черта — особое окончание праздничной и воскресной утрени, в котором утренние стихиры на стиховне присоединялись к стихирам на Хвалите — сближает Афоно-Студийский типикон с Евергетидским синаксарем. Второй отличительной чертой является пение трех антифонов (псалмов) вместо рядовых кафизм на утренях в великие праздники, а третьей чертой является пение константинопольских кафедральных антифонов (стихи XCI, XCII и XCIV псалмов с фиксированными припевами к каждому антифону [ 50]) на воскресных и праздничных Литургиях.
Вторая и третья черты Афоно-Студийского типикона восходят к богослужению кафедрального обряда, однако эти элементы не встречаются в Евергетидском синаксаре, отражающем реформированное по отношению к Студийскому синаксарю константинопольское монастырское богослужение. Следовательно, лежащая в основе Афоно-Студийского типикона редакция Студийского синаксаря возникла не в Константинополе, а в другом крупном византийском церковном центре, в котором сосуществовали и взаимодействовали монастырский и кафедральный обряды. Использование преподобным Афанасием Афонским студийского Ипотипосиса, созданного вне Студийского монастыря, подтверждает этот вывод: если бы Афанасий Афонский воспроизводил традицию именно Студийского монастыря, то при составлении Диатипосиса он использовал бы Монашеские заповеди и другие студийские нормативные тексты.
Афонское и болгарское происхождение текстов, использованных для характеристики Афоно-Студийского типикона, позволяет высказать предположение о том, что центром, в котором была создана лежащая в основе Афоно-Студийского типикона редакция Студийского синаксаря были Фессалоники, то есть Афоно-Студийский типикон отражает солунскую редакцию Студийского синаксаря.
Однако в Фессалониках влиянию кафедрального богослужения подвергся не сам Студийский синаксарь, а его переработка (редакция), близкая или совпадающая с использованной при составлении Евергетидского типикона, так как, с одной стороны, в Афоно-Студийском типиконе и соответственно в солунской редакции Студийского синаксаря имеется особое окончание праздничной и воскресной утрени, обусловленное наличием «великого славословия», однако, с другой стороны, в Афоно-Студийском типиконе отсутствуют отмеченные выше особенности палестинского происхождения, которыми обладает Евергетидский типикон. Следовательно, это промежуточное звено между Студийским синаксарем и его солунской редакцией представляет собой первую нестудийскую, то есть возникшую вне Студийского монастыря редакцию Студийского синаксаря, а солунская редакция — вторую нестудийскую редакцию Студийского синаксаря.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: