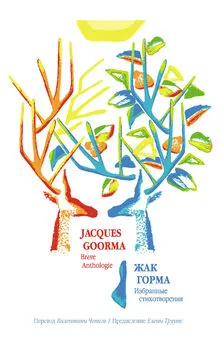Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики
- Название:Избранное: Величие и нищета метафизики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики краткое содержание
Жак Маритен (1882–1973), крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе. В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий. Общая установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный в своем прообразе космос, чем сближается с интуицией русской религиозной философии. В том вошли также работы по теории искусства и проблемам художественного творчества, рожденные как отклик на сюрреалистические эксперименты, поставившие перед мыслителем задачу возвратить искусствоведческую мысль к твердым основаниям метафизики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и соотнести с ней современную ситуацию в художественном творчестве.
Избранное: Величие и нищета метафизики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вся душа художника занята выстраиванием и обтачиванием произведения, но ее инструмент в этом деле — художественный габитус и ничто иное. Никакого вмешательства искусство здесь не терпит. Оно не допускает, чтобы какая-нибудь посторонняя сила, наряду с ним, управляла созданием произведения. Приручите его — и оно сделает все, что вы хотите. По принуждению же ничего хорошего не получится. Христианское искусство требует, чтобы как художник художник был свободным.
Никогда произведение не будет христианским, никогда красота его не засияет внутренним светом благодати, если оно не исходит из осененного благодатью сердца. Ибо добродетель искусства, которая непосредственно формирует произведение и управляет им, предполагает соответствие художественного устремления и красоты произведения. Если это христианская красота, значит, именно к такой красоте направлено устремление художника, значит, в сердце его живет любовь Христова. Тогда произведение окрашивается любовью, которая его порождает и которая движет добродетелью искусства как орудием. Таким образом, искусство становится христианским вследствие внутреннего подъема, он же вызывается любовью.
Из сказанного следует, что произведение будет христианским ровно настолько, насколько живой будет любовь. Это надо ясно понимать: необходима бодрствующая любовь, всеобъемлющее милосердие. Христианское искусство требует, чтобы как человек художник был святым.
Оно требует, чтобы он был исполнен любви. И тогда пусть делает, что хочет. Где христианское звучание произведения замутняется, там, значит, недостаточно чиста оказалась любовь [653]. «Искусство требует мира в душе, — говорил Фра Анджелико, — и, чтобы писать Христа, надо жить со Христом». Это единственное дошедшее до нас высказывание этого мастера, и как мало в нем методики…
Итак, напрасно было бы искать какую-то технику, стиль, кодекс или метод, характерные для христианского искусства. Искусство, которое зарождается и произрастает в христианском мире, приемлет бесконечное множество таких форм. Но все они имеют семейное сходство между собою и существенное отличие от всех форм искусства нехристианского; подобно тому, как различается растительность в горах и на равнине. Вслушайтесь в литургию — это чистейшая и превосходнейшая из христианских форм искусства, ее создал сам Божий Дух, себе в угоду [654]. Однако и литургия не есть нечто застывшее, и она со временем претерпевает изменения. Маронитская или православная литургия отличается от римской, у Бога много домов. Нет ничего прекраснее, чем месса с хоралом, это медленное движение перед алтарем величественнее, чем вращение звезд, но Церковь в нем не ищет ни красоты, ни пышности, ни проникновенности. Она лишь славит Спасителя, стремится слиться с Ним, и из этой благоговейной любви, как ее производное, само собой расцветает прекрасное.
Прекрасные вещи редки. Какие исключительные условия понадобились бы, чтобы вся воплощенная в реальных людях культура приобщилась искусству и созерцанию! Несмотря на гнет противящейся и падающей все ниже природы, христианство пустило корни в искусстве и в мире, но не смогло — разве что в Средневековье, да и то с какими трудностями и погрешностями! — переделать на свой лад ни искусство, ни весь мир, и это неудивительно. Классическое искусство дало немало замечательных христианских произведений. Но можно ли считать эту форму исконно христианской? Она зародилась на другой почве и пересажена на нашу.
Если посреди неимоверных бедствий, которые накликал на себя современный мир, должно хоть на миг наступить просветление, весна христианства, Вербное воскресенье Церкви, когда несчастная земля возгласит благословение сыну Давидову, то на фоне мощного духовного и интеллектуального подъема можно ожидать возрождения, на радость людям и ангелам, именно христианского искусства. Оно уже дает о себе знать в творчестве отдельных художников и поэтов, которые, сменяя друг друга, появляются в течение последнего полувека; некоторые из них входят в число великих мастеров. Не стоит только преждевременно выделять их в особую школу и изолировать от общего потока современного искусства [655]. Христианское искусство нельзя отделить и нельзя навязать, оно восторжествует спонтанно в свой час, когда наступит общее обновление искусства и в мире утвердится святость.
* * *
Христианство не облегчает искусство. Наоборот, отнимает у него некоторые легкие средства, перекрывает некоторые пути, зато поднимает его уровень. Создавая эти новые, благотворные трудности, христианство возвышает искусство изнутри, сообщает ему скрытую красоту, которая еще восхитительнее яркого блеска; придает ему наиценнейшие для художника качества: простоту, благоговение и богобоязненность и, наконец, невинность, перед которой материя делается податливой и дружественной человеку.
IX Искусство и мораль
Художественный габитус направлен лишь на создание произведения. Правда, принимаются во внимание объективные условия: практическое применение, назначение и т. д., — которым должно отвечать это произведение (статуя, сделанная для молитвенного поклонения, отличается от парковой скульптуры), но только потому, что они непосредственно связаны с красотой произведения; ибо если оно не будет к ним приспособлено, то станет несообразным, а значит, красота его пострадает. Единственная цель искусства — само произведение и его красота.
Но для человека создаваемое им произведение входит в разряд нравственных ценностей, где становится не целью, а средством [656]. Если бы художник видел конечную цель своей деятельности и, следовательно, свое счастье, в служении искусству или в красоте произведения, он был бы просто-напросто идолопоклонником [657]. Нет, он как человек непременно должен работать не ради произведения, а ради чего-то другого, что он больше любит. Любовь к Богу безмерно превосходит любовь к искусству.
Бог ревнив. «Закон божественной любви не знает пощады, — говорила Мелания из Ла-Салет [148*]. — Любовь неумолимо требует жертв, требует смерти всего, что вне ее». Несчастный художник, чье сердце разрывается надвое! Блаженный Анджелико без колебаний оставил бы кисть и пошел пасти гусей, если бы этого потребовал долг послушания. Творческий поток изливался из его смиренной души, и Бог не препятствовал художнику, поскольку он отрекся от творчества.
У искусства нет своего права вопреки Богу. Нет своего блага вопреки Богу и высшему благу человеческой жизни. В своей области искусство полновластно, как мудрость в своей, объект его не подчиняется ни мудрости, ни благоразумию, ни какой-либо иной добродетели; но субъект его и через него оно само подчинены благу субъекта; поскольку искусство заключено в человеке и человек им свободно распоряжается, оно подчинено цели человека и человеческим добродетелям. Поэтому «если искусство производит вещи, которые человек не может употребить, не совершая греха, художник, делающий такие вещи, сам грешит, ибо прямо вводит в грех ближнего, подобно человеку, делающему кумиры для идолопоклонства. Искусства же, производящие предметы, которые можно употребить и во зло, и во благо, вполне дозволительны, однако те из них, чьи произведения чаще всего имеют дурное применение, хоть и дозволительны сами по себе, но должны быть изгнаны из города властью Государя, secundum documenta Platonis» [658] [149*] . В наших городах (возрадуемся о правах человека!) нет Государей и Платон не властен утеснить все то в литературе и портняжном деле, что работает на потребу роскоши и идолопоклонства. Искусство заключено в человеке, но его благо не совпадает с благом человека, а значит, действия его подчинены внешним требованием, продиктованным более высокой целью, т. е. блаженством существа, в котором оно живет. Но для христианина в таком управлении нет насилия, потому что внутренний христианский строй его души делает все эти требования органичными, высший закон давно вошел в его плоть и кровь: spiritualis homo non est sub lege [151*]. Именно к такому человеку относится предписание: ama, et fac quod vis [152*]; если любишь, можешь делать, что хочешь, ты никогда не оскорбишь любви. Оскорбляющее Бога художественное произведение оскорбляет само искусство, перестает услаждать и, следовательно, теряет красоту.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: