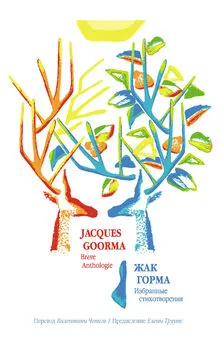Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики
- Название:Избранное: Величие и нищета метафизики
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РОССПЭН
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жак Маритен - Избранное: Величие и нищета метафизики краткое содержание
Жак Маритен (1882–1973), крупнейший религиозный философ современности, основоположник, наряду с Э. Жильсоном, неотомизма, сосредоточен не столько на истории мысли, сколько на продвижении томистской доктрины в собственно метафизической области. Образцы такого рода труда, возвращающего нас в сферу «вечной философии», представлены в настоящем томе. В противовес многим философским знаменитостям XX в., Маритен не стремится прибегать к эффектному языку неологизмов; напротив, он пользуется неувядающим богатством классических категорий. Общая установка его — сберегающая, исходящая из конфессионального взгляда на мир как на разумный в своем прообразе космос, чем сближается с интуицией русской религиозной философии. В том вошли также работы по теории искусства и проблемам художественного творчества, рожденные как отклик на сюрреалистические эксперименты, поставившие перед мыслителем задачу возвратить искусствоведческую мысль к твердым основаниям метафизики Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского и соотнести с ней современную ситуацию в художественном творчестве.
Избранное: Величие и нищета метафизики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но эти соображения, которые касаются сущностей, или основных свойств, еще недостаточны. Условия или требования экзистенциального порядка также должны быть приняты во внимание. Томистские принципы не просто вносят в область познания различия и единство, но и демонстрируют живительную силу и поддержку, которую каждая из ступеней получает от других в экзистенциальном контексте и конкретной реальности жизни духа. Они ясно показывают нам, каким образом в нематериальном средоточии сил души мистическая и теологическая мудрость оживотворяют и подкрепляют мудрость метафизическую, так же как эта последняя оживотворяет и подкрепляет философскую деятельность более низкого уровня [91].
Здесь встает вопрос, оживленно дебатируемый вот уже несколько лет подряд, — о том, что приходится именовать двусмысленным выражением «христианская философия»: либо это философия христианская не по сущности своей, но лишь по своему статусу или по условиям своего существования, как обстоит дело в области спекулятивной философии; либо это философия христианская по использованию тех истин, которыми она оперирует в своем собственном контексте, заимствуя их из иной, теологической, сферы, благодаря экзистенциальному статусу самого предмета (человеческое поведение), который она рассматривает, — как обстоит дело в области философии морали. Ранее я уже обсуждал этот вопрос о христианской философии [92]и сейчас удовлетворюсь замечанием, что св. Фома, не рассматривая специально этого вопроса, придерживался здесь вполне определенной позиции. Он подтвердил ее не только своими принципами, но и собственной деятельностью — борясь и страдая, ибо вся его борьба была направлена на признание Аристотеля и опровержение Аверроэса, т. е. на то, чтобы одновременно обеспечить признание сущностной автономии философии и жизненно связать ее, в ее человеческом осуществлении, с высшим светом теологической мудрости и мудрости святых. «Если есть сегодня томистские авторы, для которых возмутительна даже сама идея христианской философии, то это лишь доказательство того, что можно повторять формулы учителя, не осознавая их духа, и того, что томизм, как и всякая великая доктрина, может быть препарирован, как труп профессорами анатомии, вместо того чтобы быть осмысленным философами» [93].
Философия и духовный опыт
36. Идет ли речь о примате существования в метафизике и в теории познания; или о глубоко экзистенциальном характере суждения совести и суждения практической мудрости в философии морали и об экзистенциальных конечных целях самой философии морали; или о центральном значении, отведенном существующему и субъекту в универсуме бытия; или о теории зла, виновности свободного существа и несовершенствах его свободы с открываемой нам томистскими принципами точки зрения вечных предначертаний, — в каждом из этих случаев, как было показано на предыдущих страницах, ясно, что экзистенциализм Фомы Аквинского отличается от современного экзистенциализма, поскольку он рационален и поскольку, основывая собственные суждения на интуиции чувства и разума, он повсюду связывает, отождествляет бытие и интеллигибельность. Декарт и вся рационалистическая философия, сформировавшаяся вследствие картезианской революции, полагают непреодолимую враждебность между интеллектом и тайной, и здесь, без всякого сомнения, кроется источник глубокой бесчеловечности базирующейся на рационализме цивилизации. Св. Фома примиряет интеллект и тайну в сердце бытия, в сердце существования. И этим он освобождает наш интеллект, он возвращает его к собственной природе, возвращая к своему объекту. Этим он также приводит нас в состояние внутреннего единства и позволяет нам, не отказываясь от разума и философии даже в тех областях, которые превосходят философию и к которым не могут привести никакие философские пути, достичь свободы и мира.
Здесь мы видим самое высокое и самое значительное стремление к бытию, одухотворяющее томистскую мысль и делающее ее столь отчаянно необходимой, но в то же самое время столь чужеродной и нетерпимой по отношению к больному, опустошенному и ожесточившемуся разуму наших дней. Она созидает единство, а мы любим рассеяние; она творит свободу, а мы предаемся поискам какого-нибудь вида коллективного рабства; она ведет к миру, а наш удел — насилие. Терзающие нас муки мы любим больше всего на свете. Нам совсем не хотелось бы избавиться от них.
Однако великий Немой Сицилийский Бык давно начал громогласно заявлять о себе в мире, и прекратится это нескоро. Каждый может его услышать. Если его дух и учение несут человеку единство, то секрет этого все тот же: понимание всего в свете щедрости бытия. Природа и благодать, вера и разум, теология и философия, добродетели сверхъестественные и естественные, мудрость и наука, энергия спекулятивная и практическая, мир метафизики и мир этики, мир познания и мир поэзии, а также и мир мистического молчания — за каждым созвездием нашего человеческого небосвода св. Фома старается признать его место и права, но он не обособляет их. В своей экзистенциальной перспективе он находит в различии единство, которым является Образ Бога, и объединяет все наши способности в совместном действии, спасающем и стимулирующем наше бытие [94]. Фома Аквинский противостоит Гегелю, который все разъединяет и приводит в состояние борьбы, принимая всеобщность бытия в антиэкзистенциальной перспективе абсолютного идеализма и желая все свести к единству Великого космогонического Идола, в котором противоположности соединяются для порождения монстров и в котором отождествляются Бытие и Небытие.
37. Воздадим должное Кьеркегору и его последователям за то, что, выступая против Гегеля, они вновь преподали тем, кто неустанно мыслит, великий урок тоски, и в особенности за то, что они напомнили этот великий урок приверженцам св. Фомы. Огромная опасность, подстерегающая тех, чья доктрина восходит к высотам единства и мира, состоит в том, что они могут счесть свой путь завершенным тогда, когда находятся еще в самом его начале, и забыть, что для человека и его мысли мир — всегда победа над раздором, а единство — цена выстраданного и преодоленного разлада.
Мир и единство томистов не имеют ничего общего с легкодостижимым равновесием и диалектическими примирениями разума, обосновавшегося в зоне безопасности, под защитой механизма готовых ответов, выдаваемых на любой вопрос. Они требуют постоянно преодолевать постоянно возникающие вновь конфликты; глубоко вникать в новые проблемы, с тем чтобы из скалы обретенного знания пробился источник новой интуиции неведомых истин или истин старых, заново понятых; присоединяться ко всем усилиям, направленным на поиски и открытия, с тем чтобы высветить истину, достигаемую благодаря этим усилиям обычно лишь при содействии некоторого заблуждения или в неудачном понятийном выражении. Они требуют от человека напряжения и широты, которые, по правде говоря, достижимы лишь в скорби креста. Ибо слова апостола Павла относятся и к сфере духовной: без пролития крови нет искупления. Примирение высших сил разума и жизни, которые по природе своей неистовы, как и всякое стремление к абсолютному, и притязают на все, есть ложное примирение, если оно не являет собою также искупление; и оно может свершиться лишь ценой страдания самого духа [95].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: