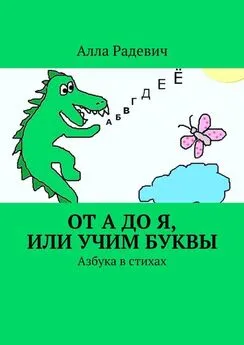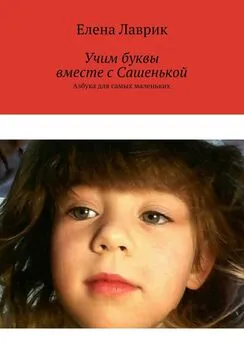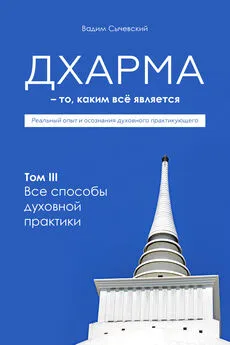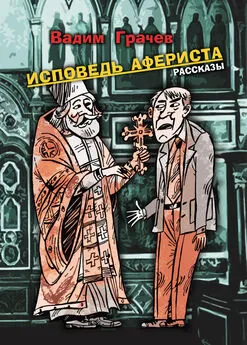Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух
- Название:Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Рабинович - Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух краткое содержание
Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе с тем смиренен и мал, беспомощен и сир... Во всяком случае таким представлял себя Алкуин своим адресатам и, конечно же, самому себе - в тон учительскому образцу, восходящему сами знаете к кому (вспомним слово евангелиста Иоанна...). Американская исследовательница Л. Валлах, как бы переча Алкуину, пишет о нём так: "Его достижения как воспитателя, государственного деятеля, администратора, поэта, писателя и учёного не имеют параллелей среди его одаренных друзей-сотоварищей по придворной школе, хотя гот Теодульф Орлеанский был, возможно, лучшим поэтом, лангобард Павел Диакон - лучшим историком, а патриарх Павлин Аквилейский - более оригинальным теологом". И в этой интернациональной академии - роль Алкуина-англосакса особая: она учительская прежде всего и потому политическая, ибо учительство в те времена было первее всего. Школы, церкви, аббатства... Именно сюда прежде всего необходимо нести свет бога. И это делает Карл - помазанник бога. А как донести этот свет, научит Алкуин верный друг и смиренный учитель. Но свет бога несёт не только Карл, но и каждый, кто рядом: свет своего дела - политического, солдатского, послушнического...
В 804 году Алкуин умер. Вот, пожалуй, и всё.
Учитель и только учитель. Всю свою послеученическую жизнь.
Что он за свою жизнь сочинил? Все его сочинения - только для преподавания. И ни для чего более. Учебник грамматики построен в форме учительско-ученических словопрений двух отроков - франка и сакса. Веков шесть или семь учили в школах по Алкуиновой грамматике. Пособие по риторике и книга по диалектике тоже были представлены в виде учительско-ученических бесед Алкуина и Карла. Здесь же и книжица с задачами по арифметике, предназначенная "для изощрения ума юношей", извлечение из Беды Достопочтенного по орфографии, комментарий к Присциановой грамматике латинского языка. Но даже сочинения о луне и високосном годе, трактат о Троице и толкования к Писанию тоже были учебными пособиями, призванными в форме упрощенных компиляций легко войти в пустые, но емкие, как губка, головы глазастых и ушастых учеников. Конкретное послание. Диалог вымышленный или реальный... Но всегда - живой адресат неизбывной учительской энергии Алкуина-учителя.
Да и стихотворения его тоже были служебного, учебно-наставительного, свойства. Однако иногда такого свойства, что только оно и определяло структуру совершенно новой художественности, никоим образом не связываясь с критериями художественности ни античных, ни новых времен. Совершенно новый художественный жанр, выговаривающий подспудные смыслы средневековой учительской учености. Потому что художественная "модель" соответствует не столько историческому прототипу, сколько структурообразующей сути явления. Речь идет о художественно значимом слове по поводу школьных учительско-ученических слов. Но здесь я опять тороплю события: анализ Алкуинова учительства как текста художественного еще предстоит, только еще намечается.
А пока не приведи господь проспать ночное богослужение, с вечера зачитавшись язычником Вергилием. И ночью тоже надлежало учиться. Учебно-ученические ночные времена. Эпоха, только-только начавшая понимать, что "ученье свет, а неученых тьма". Тьма неученых, подлежащая первому рассеянию стараниями каролингских возрожденцев VIII-IX веков, и едва ли не главным из них (а уж первым, так это совершенно точно) - Алкуином-Флакком. Несколько замечаний по поводу этой эпохи (читайте об этом у Л. Карсавина и М. Гаспарова).
Нас будет интересовать в Каролингском возрождении только эпоха Карла Великого, ибо именно ей принадлежит Алкуин. Это было время культурного синтеза раннего средневековья, отмеченного воссоединением разрозненных сполохов уже мало что значившей греко-римской культуры в безвидных пространствах "темных веков" с культурой нового христианского мира, в котором книжная ученость естественно была привита к народным германо-романским культурным традициям. Исторически неизбежный замысел. И суждено ему было явить себя при дворе Карла Великого, этого замечательного культурного державного Каролинга.
При дворе Карла происходило всяческое. Но глянем лишь на то, что так или иначе можно соотнести со средневековой учительско-ученической книжностью.
Политическое воссоединение Европы королями франков, отмеченное возложением на Карла Великого императорской короны папой Львом III, объективная предпосылка культурной работы эпохи Каролингов. Но это ритуальный знак завершения, лишь санкционировавший то, что уже было, книжную жизнь VIII столетия, с необходимостью обусловленную единством франкской монархии; единством совершенно особого - феодально-церковного типа. Этот тип единства предполагал политическое объединение достаточно самостоятельных все же, сельских с натуральным хозяйствованием, областей имперской - представленной на местах - властью и властью церковных единоначальников. Две опоры государственного единства. Причем церковь была для Карла идеологически предпочтительней. Но светские проводники императорской власти тоже были нужны, а знания у них были куцые. Их надо было учить при непременной опоре, конечно, на культурное духовенство, пополнявшееся в те времена свободно - вне сословных перегородок. Но державное единство, как его понимал Карл Великий, требовало единства иного рода: культурные действия церкви должны быть едины; едиными должны быть не только цели, но и "средства". Перво-наперво начинается выработка учительского канона (канонический текст Библии, свод реформированных литургических обрядов, образцовый сборник проповедей на все случаи гомилиарий... - всё это нужно было подогнать, затвердить, застолбить, встроить во "всеобщее" сознание потребителей). И комиссия при дворе Карла тем и занялась. Занялась она также и тем, чтобы было кому этот канон донести до внимательных ушей.
Где взять будущих учителей? Их следовало сначала еще сделать. А из кого? Понятно, из учеников. В "Капитулярии о науках" (около 787 года) читаем: "...Как соблюдение монастырских уставов хранит чистоту нравов, так образование устрояет и украшает слова речи; поэтому те, кои стремятся угодить богу праведной жизнью, пусть не пренебрегают угождать ему также и правильной речью... ибо хотя лучше правильно поступать, чем правильно знать, но сначала нужно знать, а потом поступать". Знание как действие. Действие как смысл. Праведная жизнь - правильная речь. Но и то, и другое, и третье истинные. Вот почему нужно, читаем мы в "Капитулярии" 802 года, "чтобы каждый посылал детей своих в школу, которую дети должны прилежно посещать, пока они достойно не обучатся". Поступать - цель, а знать - средство. Но правильно знать именно в это время, время становления учительского канона, становится и целью: учительско-ученической практикой, должной обрести статус канона, но канона скорее формального, нежели содержательного, хотя, конечно же, ради наведения на всесодержательнейший внеучебный смысл, просвечивающийся в слове научения смыслу. В живом слове, ибо речь - не последняя субстанция человеческого бытия. Этот канон, сбитый из живых слов, должен окаменеть и окаменеть на многие века.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: