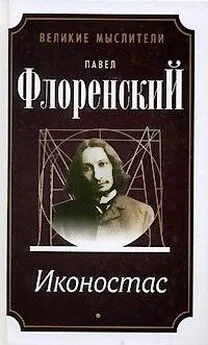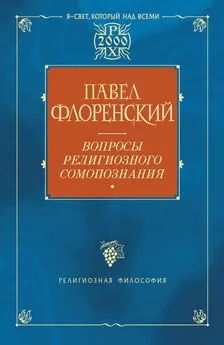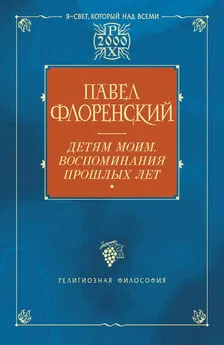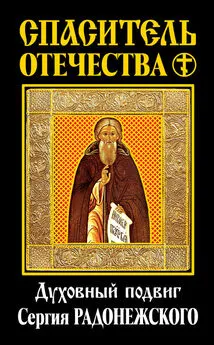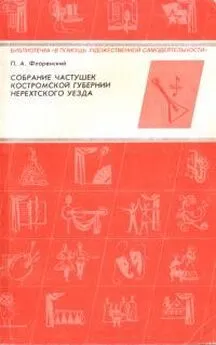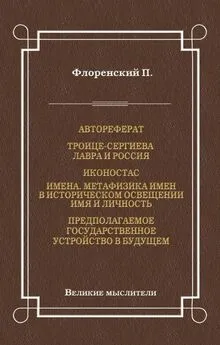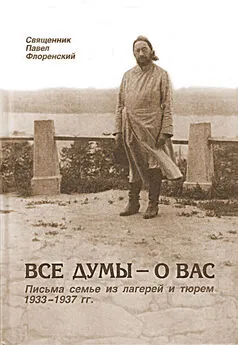Павел Флоренский - Павел Флоренский История и философия искусства
- Название:Павел Флоренский История и философия искусства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «ΜЫСЛЬ»
- Год:2000
- Город:МОСКВА
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Флоренский - Павел Флоренский История и философия искусства краткое содержание
Павел Флоренский История и философия искусства - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В виде примера сделаем подсчет для шара радиусом 10 см и в расстоянии 50 см от глаз. Пусть расстояние между двумя точками зрения равно 6 см. Тогда в горизонтальном экваториальном сечении к сектору, видимому одним глазом с одной точки зрения, добавляется другим глазом примерно одна треть той же величины. Этот подсчет соответствует тому случаю, когда мы наблюдаем близкого к нам собеседника почти при неподвижности. До известной степени таковые же условия зрения при писании портретов, когда старались передать зрение недвижное. Указанная одна треть идет уже на прямое и явное опровержение перспективы даже в этом, нарочно и вопреки жизни подстроенном соотношении, наиболее благоприятном перспективе. Но жизнь, жизненные отношения, вообще говоря, вовсе не таковы. Точка зрения, точнее сказать, двойная точка зрения пары глаз, все время меняется, а образ, воспринимаемый нами непременно во времени, должен быть единым, т. е., иначе говоря, должен совместить в себе множество различных аспектов, объединяющих в себе каждый два аспекта, с двойной точки зрения. Наша голова подымается и опускается: следствием этого подымается и опускается горизонт, и это обстоятельство дает нам сознание простора по вертикали, как возможности подыматься и опускаться. Оценка высоты здания наиболее убедительна при таких подъемах и спусках, т. е. при смещениях горизонта. И потому, когда художник хочет передать нам архитектурный образ вместе с вызываемой им оценкою его высоты, то он неминуемо должен отказаться от перспективного требования единого горизонта. Если же требуется повысить эту оценку и внушить мысль о грандиозности и величии некоторого здания, то необходимо прибегнуть к мысленному опыту очень больших подъемов и опусканий, что ведет к значительному смешению горизонта. Эта сгущенность впечатления высоты достигается очень просто: поднятием горизонта нижней части изображения и опусканием горизонта верхней его части. Таков излюбленный прием целого ряда даже тех художников, которые, в общем правиле, перспективы старались держаться. Рембрандт, Поль Веронезе («Христос на пире у мытаря» и «Брак в Кане Галилейской»), Рафаэль («Афинская Школа», сравни также «Видение Иезекииля» и др.) достигали помощью него впечатления пышности и величия, изображая пространства вовсе не высокие, если делать промер аршином, а не созерцающим глазом.
Напротив, если бы потребовалось иметь в распоряжении много полотна для передачи низких и придавливающих архитектурных пространств, то нетрудно было бы добиться впечатления этой придавленности, этих низких потолков и стесненного дыхания тоже смещением горизонта. Но только тут потребовалось бы горизонт нижних частей изображения опустить, а горизонт верхних частей — поднять.
Разумеется, все сказанное о мотивах архитектурных может и должно быть повторено и обо всех прочих распределениях зрительных масс по вертикали.
LXXXVI
1925.1.4 ст. ст.
Изобразительная поверхность может быть насыщена также и по горизонтали, и это уплотнение выражает движение наблюдателя в горизонтальной плоскости. Признак такого смещения по горизонтали — неединственность центра перспективы. Два неподвижных, но совмещающихся между собою наблюдения с двух различных мест на горизонтальной плоскости выражаются двумя, между собою сосуществующими, центрами перспективы. Большее число наблюдений из разных мест дает и соответственное число центров перспективы. Может быть, и даже наиболее часто бывает, непрерывное движение созерцателя; тогда и соответственные центры перспективы располагаются непрерывным множеством точек на отрезке горизонта.
Возможно, далее, совмещение движений горизонтальных. Тогда центры перспективы размещаются на разных горизонтах, или даже образуют своею совокупностью некоторую непрерывную кривую, нетождественную, конечно, с траекторией наблюдателя или даже с проекцией ее на плоскость изображения, но во всяком случае связанную с путем самого наблюдателя и являющуюся таким образом символическою записью этого пути.
Чтобы охватить некоторый внутренний объем, например объем комнаты, мы всегда стараемся несколько подвигаться, несколько пройтись по комнате. Как именно двигаться наиболее естественно всякому обозревателю — этого, пожалуй, при настоящей неизученности подобных вопросов — не скажешь; но тем не менее несомненно, что должны быть какие‑то определенные приемы такого обозревания, вытекающие из основных условий восприятия. В частности, тут должно быть отмечено: даже в учебниках перспективы указывается, что полезно при изображении пространства не выдерживать единого горизонта и единого ценгра перспективы, но располагать последний, или, точнее, центры перспективы по некоторой замкнутой кривой. Рекомендуется в особенности для такой цели развертка эллипса. Она, будучи сделана геометрическим местом центра перспективы на изобразительной плоскости, соответствует тому движению наблюдателя внутри архитектурного объема комнаты, при каковом движении этот объем охватывается наиболее полно и наиболее равномерно, а это дает впечатление спокойного и, так сказать, жилого обладания данным пространством, т. е. передает характерную душевную тональность interieur'a. Но, разумеется, предлагаемый прием есть только один из приемов и отвечает некоторому определенному, по–своему законному, но весьма частному отношению к пространству. Другой ритм душевной жизни имеет следствием другое отношение к пространству и, соответственно, другое геометрическое место центра перспективы.
LXXXVII
Все это — общие схемы и общие соображения. Коротко их можно выразить словами: в изображении записывается и путь художника.
Прежде всего— путь в прямом и наиболее скромном смысле. Пойдем, например, по лесу. Мы движемся, и пред нами встают образы древесных стволов. Остановимся: мгновенно картина, оставаясь формально тождественной, делается вместе с тем существенно иною. Мгновенно исчезает стволистая глубина лесного пространства, а самые стволы теряют свою объемность. Впечатление такое, как если бы стволистая даль внезапно утратила одно измерение. Отношение того, с подвижной точки зрения воспринимаемого образа леса к новому, воспринимаемому при остановке, —то же, как между цветком и засушенным его препаратом в гербарии. Короче говоря, остановкою наблюдателя образ леса сплющивается, а движением его — развертывается.
С изумительной, почти до боли остротою воспринимается(лес) зимой, когда идешь по дороге вдоль обнаженных олешниковых и ивняковых зарослей. Переплет ветвей, проектируясь на светлый фон, небо или снег, представляется плоскою решеткою, в отношении которой даже не подымается вопроса о глубине. Но на темном фоне, еловом лесе, те же ветви дают глубину настолько сильно воспринимаемую, что весь объем этой заросли представляется хрустальной массой с тонкими в ней иглами кристаллов. Когда движешься, то совершенно ясно видишь эту глубину, как хрустальную твердь. Но остановка мгновенно рассеивает такое восприятие, словно твердь растаяла и вылилась, оставив одни только ветви, уже лишенные связи по третьему измерению. Но, ясное дело, ни к стволистой дали, ни к ветвистой чаще не подойти в ее глубине правильной перспективою: вся суть этих восприятий глубины — именно в ярком отрицании перспективы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: