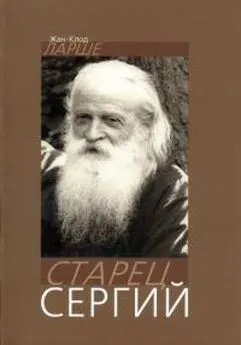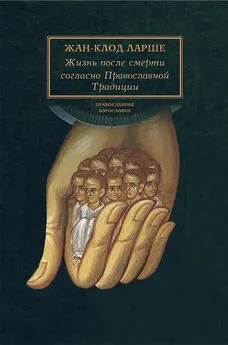Жан–Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом
- Название:Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд. Сретенского монастыря
- Год:2004
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан–Клод Ларше - Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом краткое содержание
Книга известного православного богослова Жан–Клода Ларше, одного из лучших знатоков наследия преподобного Максима Исповедника, посвящена ключевым пунктам разногласий между христианскими Востоком и Западом. Это вопрос о Филиокве, вопрос о первородном грехе и проблема примата Римского папы. Позиция преподобного Максима Исповедника, точнейшим образом раскрытая французским исследователем, помогает понять суть многовековых споров по этим вопросам и уяснить православную точку зрения в полноте историко–богословского контекста.
Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Преподобный Максим говорит также о «порочности (или расположении ко злу) proairesis (т\ как1а тту; ярооарёаеах;)», указывая, что это происходит из‑за слабости нашего естества (то есть страстности) [269] Ср.: Вопросоответы… XLII, с. 129.
». Он считает, что воля падшего человека ослаблена и отмечена грехом, о чем он пишет: «Если же желание есть в нас первичное претерпевание, а Слово, как они [монофелиты] говорят, воплотившись, не восприняло желания вместе с природой, то я, следовательно, не стал безгрешным (хюрЦ ацартиы;) [270] Диспут с Пирром: преп. Максим Исповедник и христологические споры VII столетия, М., 2004. С. 199.
». Кроме того, когда преподобный Максим обращается к сферам отношений человека с ему подобными, он подчеркивает всегдашний, вносящий разлад характер воли, которая разделяет людей на одних и других и разрывает человеческое естество [271] Ер. 2, PG 91, 396D-397A.
, причем он говорит здесь даже о «непримиримом расположении воли», на которое опирается дьявол, чтобы обеспечить постоянство зла в падшем человечестве [272] Ibid., 397А.
.
Что касается уз и рабства падшего человека, о которых святой Максим писал в 21–й главе «Вопросоответов к Фалассию» («для естества человеческого, неразрывно связанного по своей воле лукавыми узами, не было надежды на спасение» [273] Вопросоответы… XXI, с. 71.
), то для этого есть в его сочинениях и другие выражения. Так, он отмечает «лукавое бессилие» человеческого естества после преступления Адама [274] Ibid.
. Он говорит, что «дьявол имеет обыкновение, вопреки добродетели и ведению, приводить в созвучие с самим собой движимое естество и время, затевая невидимую брань» [275] Толкование на 59 псалом // Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1, М„ 1993. С. 208.
.
К тому же он обращает внимание, что падший человек «постоянно и против желания был угнетаем страхом смерти, придерживаясь рабства наслаждения ради того, чтобы жить» [276] Вопросоответы к Фалассию // Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 2, М„ 1993. С. 73.
. Он полагает, что падший человек «по своему устроению и необходимости» обладает законом естества и не движим по собственному произволению в том смысле, что он не обладает полным господством над самим собой, оказываясь лицом к лицу с демоническими искушениями и давая им с легкостью себя увлечь [277] См. ibid., р. 71. Это показано косвенным образом и через противопоставление тому, каким образом Христос, Который является не обыкновенным человеком, но соединенным с Божеством, отражает нападения демонов. Эту идею можно найти у свят. СОФРОНИЯ ИЕРУСАЛИМСКОГО, Ер. syn., PG 87, 3173 С—3176А. См. также: DOROTHEE DE GAZA, Doct., I, 4, SC 92, p. 152: «Это тираническое принуждение, которое человек претерпевал от врага, и те, которые желали избежать греха, были почти принуждаемы его совершить».
.
Необходимо, тем не менее, отметить, что рядом с этими резкими выражениями можно отыскать выражения, более богатые оттенками. Так, преподобный Максим дает понять, что падший человек получил как следствие грехопадения «живость, которая с легкостью может проникнуть во все страсти и привязанность к ним», а также «неустойчивость, непостоянство […], которые легко заставляют его меняться» [278] Amb. Io„ 8, PG 91, 1104А.
. Он обращает внимание на удобопреклонность направленности воли к наслаждению [279] Вопросоответы… XXI, с. 73.
, но также на ее стремление малодушно отступать перед страданием [280] Ibid.
. Он подчеркивает также слабость человеческой воли, о которой он говорит, что она «ни в коей мере не безгрешна из‑за своей способности склоняться то к одному, то к другому» [281] Th. Pol., 20, PG 91, 236D.
и которую он описывает как имеющую в себе некое движение против естества, как сопротивляющуюся Богу в большинстве случаев и часто противопоставляющую себя Ему (то, что влечет за собой грех), но не всегда [282] См. ibid., 236В, 241А–С. Эта идея появляется в позднем сочинении преп. Максима, но нужно отметить, что ее можно отыскать в более радикальном выражении в проповеди его духовного отца Софрония Иерусалимского: «По приговору, вынесенному нашему естеству, это не просто беда, но нечто вроде отвращения к Богу, которое примешано к нашей жизни». (Or., VII, 4, PG 87, 3328).
.
Таким образом, преподобный Максим представляет в целом волю как склонную ко злу — иногда через действия бесов само состояние страстности, усиленно ищущей того, как бы достичь наслаждения и избежать страдания: стремления, в котором рождаются лукавые страсти, — но она не всецело определена этим. Он представляет также волю ослабленную и тленную, балансирующую между добром и злом, но не полностью лукавую и бессильную. Оказывается, по преподобному Максиму, что бесы, которые действуют в страстности естества, не определяют человека к деланию зла, но искушают убеждением и прибегают к лукавству [283] См. Вопросоответы… XXI, с.72.
.
Таким образом, у падшего человека остается, в принципе, определенное поле свободы и некоторая возможность творить благо. Но нужно признать, что это поле крайне ограничено.
V. ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПАДШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО
Вот пессимистический всеобъемлющий портрет, в котором преподобный Максим обрисовывает падшее человечество, как это следует, например, из мрачного описания человеческой природы, заключенного в главе 65–й «Вопросоответов к Фалассию» и относящегося к толкованию книги пророка Ионы:
«Пророк, служащий первообразом вещей самих в себе, означает Адама, то есть общую человеческую природу, которая оказалась вне Божественных благ, как вне Иоппии; которая погрузилась в ничтожество жизни, как в море; которая бросилась в открытое море, «полное ужаса и шума», страстно припав к материальным вещам; которая была проглочена китом, чудовищем сверхчувственным и ненасытным, дьяволом; которую объяли «до души» воды лукавых искушений, то есть жизнь, охваченная соблазнами; которая окружена «последней бездной», то есть чей разум порабощен полнейшим невежеством; чья мысль претерпевает повсюду бремя зла; имея голову «застрявшую в расселине горы», то есть первый логос веры в монаде, поскольку голова всего тела добродетелей заключена как бы в неком темном ущелье гор (мысли лукавых сил); разорвана ими на множественность мнений и представлений (на самом деле, слово, называющее «расселиной горы» помыслы духов зла, клубящихся в глубинах последней бездны невежества и заблуждения); спущенная на землю, чьи оковы вечны, то есть в пустыню, лишенную восприятия божественного; чей габитус [облик. — Ред.] опущен книзу и лишен всякого живого движения добродетели, малейшего разумения того, что есть милосердие, и малейшего устремления души к Богу; от него, как из бездны, поднимается угар невежества и открывается ни с чем не сравнимая глубина порока; в него груды заблуждений пускают свои корни — духов злобы, для которых природа человека, вся сплошь пронизанная трещинами, стала тут же основанием по своему лукавому обычаю, поскольку она сделалась расположенной к усвоению этого заведенного порядка зла; она сделалась, словно запертой навеки на замок этим внутренним страстным расположением к материальным вещам, которые мешают увидеть свет истинного познания […], а сознание не может освободиться от мрака невежества своего разума, — сумеречное, поскольку необитаемо для подлинного ведения и созерцания; темное, поскольку лишено всякого опыта; «в котором, — говорит он, — нет света», то есть познания истины; «где не видно никакой жизни смертных», то есть той, которая бы его привела к существованию, наделенному смыслом» [284] Thai., LXV, PG 90, 696D-697C, CCSG 22, p. 191–194.
.
Интервал:
Закладка:





![Жан-Клод Ларше - Исцеление психических болезней [Опыт христианского Востока первых веков]](/books/1097564/zhan.webp)