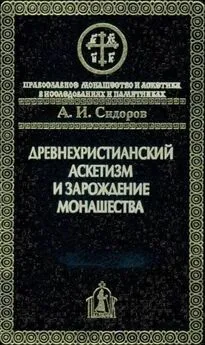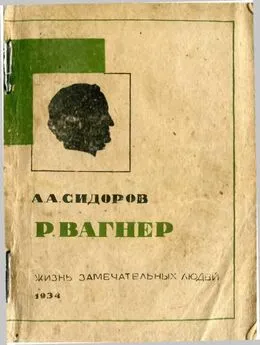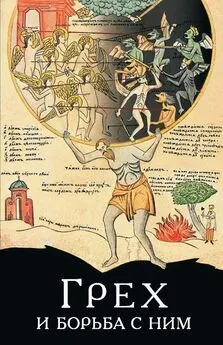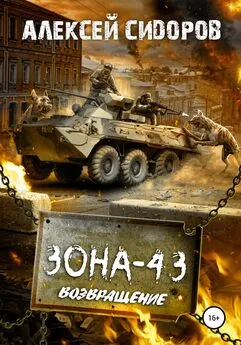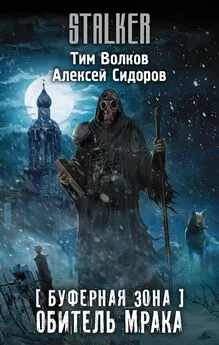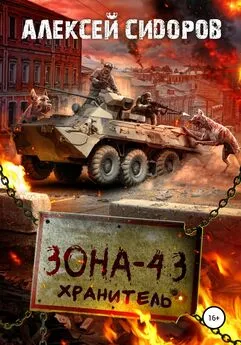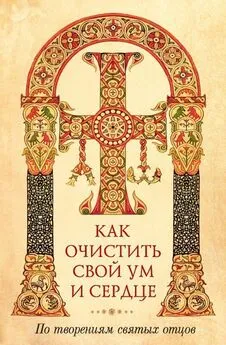Алексей Сидоров - Творения древних отцов–подвижников
- Название:Творения древних отцов–подвижников
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сибирская Благозвонница
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:ISBN 978–5–91362–489–5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Сидоров - Творения древних отцов–подвижников краткое содержание
Предлагаемые читателю «Творения древних отцов-подвижников» являются переизданием ставшей библиографической редкостью книги, вышедшей в 1990–е годы. В издании представлены переводы святоотеческих аскетических сочинений таких известных авторов Египетской пустыни IV века, как св. Аммон, св. Серапион Тмуитский, преп. Макарий Египетский, Стефан Фиваидский, блж. Иперехий, а кроме того великого каппадокийца св. Григория Нисского. Данные произведения содержат в себе духовную мудрость и подвижнический опыт древних святых, столь необходимый и востребованный в современной церковной и в особенности монашеской жизни. Перевод этих памятников древнецерковной монашеской письменности выполнен профессором МДА А. И. Сидоровым и снабжен обширными научными комментариями. Редакция также надеется, что это патрологическое издание привлечет к себе внимание преподавателей и студентов духовных учебных заведений и просто вдумчивого православного читателя, неравнодушного к святоотеческому наследию.
Творения древних отцов–подвижников - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
410
Сирийский текст опять отличается от греческого: «Ибо первая теплота — взволнованная и неразумная, а вторая — лучше ее. Она дарована здесь, чтобы человек, пока он ведет [духовную] брань, видел духовное, имея перед тобой [упование] на невозмутимый покой». Учение о «теплоте» (θέρμη), насколько нам известно, не встречается в творениях преп. Макария, но оно характерно для св. Аммона (см. выше). Это понятие, обычно связываемое с опытом благодати, довольно часто употребляется в аскетической письменности. Так, блж. Диадох, ведя речь о душе, «подвергающейся действию Бога» (τής ένεργουμένης ύπό Θεοΰ ψυχής), говорит, что она, даже впав в раздражение, не расторгает узы любви, ибо воскрешает («вновь возжигает») себя с помощью теплоты любви Божией (τή γάρ θέρμη τής αγάπης τοϋ θεοϋ άναζωπυροϋσα έαυτήν). См.: Dia^o^Me ^e PAofice. Oeuvres spirituelles. P. 92.
411
Сирийский перевод: «чтобы во всем быть твердыми (firmi)».
412
Выражение τό τής χαχίας άρίστερόν μέρος указывает на традиционное соотнесение зла с «левым» (ср. Иона. 1 4, 11). В «Духовных беседах» преп. Макарий говорит: «Если кто здесь не искал и не принял жизнь для души [своей] — Божественный свет Духа, то при исходе своем из тела он отделяется в левые места тьмы (έν άρίστεροΓς τόποίς τοΰ οχότους) и не входит в Царство Небесное, обретая конец свой в геенне вместе с диа–волом и ангелами его» (Die 50 geistlichen Homilien des Makarios. S. 243).
413
Фраза ταΓς άπλουστέραίς ψυχαΓς, возможно, служит отзвуком той определенной дисгармонии между немудрствующими по вере и учеными богословами, которая наметилась в Александрийской церкви в конце II‑III вв. (см.: Histoire de l'Eglise. T. 2. De la fin du 2–e siecle a la paix constantienne par J. Lebreton et J. Zeiller. Paris, 1935. P. 361–374). В египетском монашестве эта дисгармония приобрела формы определенной оппозиции между учеными иноками и простецами, приведшей к столкновению оригенистов и антропоморфитов. См. наше предисловие к переводу творений Евагрия Понтийского: Творения аввы Евагрия. С. 35–41.
414
Подчеркивая неразрывную связь агапе и гноси–са, преп. Макарий органично вписывается в предшествующую александрийскую традицию, ясно выраженную уже у Климента Александрийского (см.: Morf/ey P. Connaissance religieuse et herme‑neutique chez Clement d'Alexandrie. Leiden, 1973. P. 138–143). Эта традиция ярко запечатлелась и в сочинениях Евагрия Понтийского, который, например, в произведении «К монахам» (3) говорит: «Вера есть начало любви, а конец любви — ведение Бога». Причем, как отмечает Й. Дрисколл, эта сентенция Евагрия не означает, что любовь для Евагрия является неким незначительным промежуточным этапом на пути к «гносису», ибо ведение Бога есть ведение Того Бога, Который есть Любовь. Поэтому и агапе является существеннейшим и неотделимым элементом гносиса. См.: Dnsco//J. The «Ad Monachos» of Evagrius Ponticus. Its Structure and a Select Commentary. Romae, 1991. P. 166–168).
415
Полагая неведение (γνοιαν) в качестве причины всех пороков, преп. Макарий опять примыкает к традиции александрийского православного гносиса. Ср. у Климента Александрийского: «Есть два начала (χαα) всякого греха: неведение и немощь» (цит. по: Lam pe G. W. H. Op. cit. P. 21). Эта традиция нашла свое продолжение и у Евагрия, который часто сополагает порок и неведение. Например, в «Схолиях на Книгу Екклесиаста» он замечает: «Спаситель в Евангелиях повелевает человеку бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение (Мф. 26, 41). Ведь сон разумной души есть неведение и порок (πνος γγγ λογιιις ψυχχς γνοια αα αααα)» (Evagre le Pontique. Scholies а l’Ecclesiaste / Ed. par P. Gehin // Sources chrйtiennes. № 397. Paris, 1993. P. 118). Данная традиция прослеживается и в последующей аскетической письменности. Так, преп. Марк Подвижник говорит, что «разумение (τον λογίσμόν) омрачается неведением — причиной всех зол»; неведение он еще называет матерью и кормилицей всех зол или корнем их (см.: ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ. ΤΟΜΟΣ Λ. Σ. 129, 136, 137).
416
Фраза πατά τον άποστολίχόν χαρακτήρα отражает тот факт, что монашество всегда рассматривалось и рассматривается как стремление во всей полноте осуществить христианский идеал, ясно намеченный святыми апостолами. Так, согласно преп. Иоанну Кассиану Римлянину, «практика жизни монахов–подвижников и возникла из стремления некоторых христиан сохранить совершенство жизни и «горячность апостольскую», и в этой высокой цели своей жизни они и имели оправдание своего звания» (Феодор (Лоздееескмм), мерожо–нох. Аскетичежие воззрения преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. С. 80–81). Эта же идея ясно выражается преп. Пахомием Великим, считающим монаха «истинным христианином по преимуществу». Его ученик, преп. Феодор, говорит о «святой кино–вии», которая являет на земле «жизнь апостоль^ую» тем, которые желают быть «по образу апостолов» (см.: BacAf Н. Pakhome et ses disciples (IV‑e siecle) // Theologie de la vie monastique. Etudes sur la Tradition patristiques. Aubier, 1961. P. 60–67).
417
Слова <���ερόν τε συγκρότημα κα< στίφος αδελφότητος предполагают взгляд на монашество как на «регулярную часть» воинства Христова, противостоящего бесовской рати.
418
На это место послания св. апостола Павла преп. Макарий часто ссылается в своих творениях. Так, он говорит о душе, «пришедшей в меру полного духовного возраста и ставшей наследницей Царства»; когда душа достигает такого возраста, то ум, пребывая в великом покое и не отягощенный земными заботами, легко «перелетает с холма на холм и с горы на гору», то есть возносится из мира сего в мир горний и из века сего в век блаженный, нетленный и беспредельный. См.: PseM^o‑Macaife. Oeuvres spi‑rituelles. P. 170, 184.
419
Призыв к исследованию (τ^ν επίσχεψιν) и тщательному рассмотрению (άχριβως επισχεπτομενοις) написанного весьма показателен. Он свидетельствует о том, что преп. Макарий, как большинство святых отцов, отнюдь не считал свой личный духовный опыт абсолютным критерием аскетической (и вообще христианской) жизни. Данный опыт, по мысли преподобного, обретает общезначимую ценность, то есть становится «знанием добродетели» (τ^ν εΓδησιν άρετ^ς), лишь при проверке его духовным опытом других подвижников.
420
Преп. Макарий не приводит целиком «формулы» (σύνταγμα) крещального символа, а лишь в общих чертах суммирует его содержание. Р. Штаатс в своем комментарии к указанному месту констатирует близость этого символа к вероучительному постановлению отцов Второго Вселенского Собора, как его передает блж. Феодорит Кирский в своей «Церковной истории». Однако, на наш взгляд, текст этого постановления лишь очень отдаленно напоминает текст символа у преп. Макария. В постановлении говорится об «одном Божестве, силе и сущности» (θεότης χα< δυνάμεως χα< ούσίας μι&ς) Отца и Сына и Святого Духа в трех совершенных Ипостасях или Лицах, а также употребляются другие понятия и выражения, чем в символе у преп. Макария (см.: Theodoret Kirchenge‑schichte / Hrsg. von L. Parmentier und F. Scheidweiler. Berlin, 1954. S. 292). Очень отдаленное сходство имеет текст преп. Макария и с окончательной редакцией «Никео–Цареградского символа» (см. анализ этого символа в кн.: Ofdz ^e LfAma 7. Nicee et Constantinople. Paris, 1963. P. 182–205). С уверенностью можно только сказать, что крещальный символ, на который ссылается преп. Макарий, возник явно после Никей–ского Собора, ибо об этом свидетельствует выражение «единосущие Троицы» (τ% Τρίαδος τό όμούσιον). Другое выражение — «единая воля» (εν θέλημα) — намекает на тот аспект православной триадологии, который впервые затронул Ориген, а затем развили святые Афанасий Александрийский и Василий Великий (см.: Presfige G. — ί. Dieu dans la pensee patristique. Au‑bier, 1955. P. 216–217). Поэтому можно предположить, что крещальный символ, упоминаемый преп. Макарием, датируется, скорее всего, третьей четвертью IV в.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: