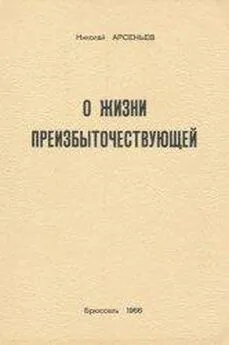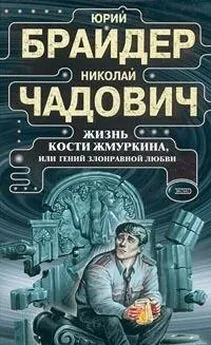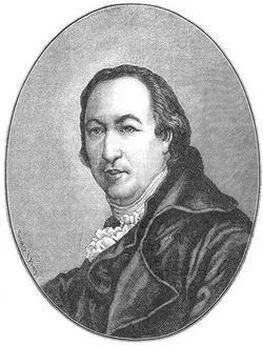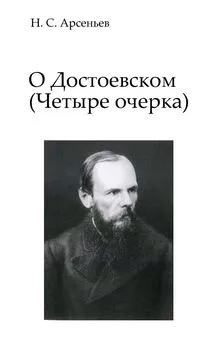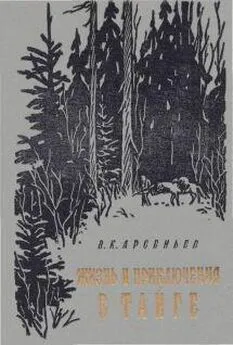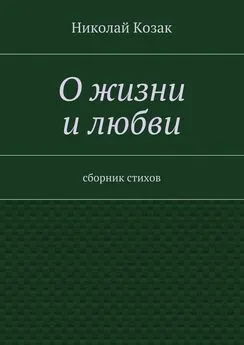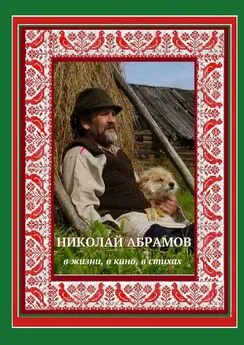Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей
- Название:О Жизни Преизбыточествующей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1966
- Город:Брюссель
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Арсеньев - О Жизни Преизбыточествующей краткое содержание
О Жизни Преизбыточествующей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но Он же утешает со Креста: не мы Его можем найти, Он первый взыскал нас.
«Утешься, ты Меня не искал бы, если бы ты не нашел Меня.
Я думал о тебе в Моем борении, Я пролил за тебя по каплям кровь Мою.
Это более Меня искушать, чем самого себя испытывать — думать, сделаешь ли ты такую–то и такую–то вещь, не предстоящую тебе теперь. Я свершу её в тебе, если будет нужно…
Господь мой, я всё отдаю Тебе. — Ты не искал бы Меня, если бы ты Мною уже не обладал. Итак, не беспокойся». («Consoletoi, tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais trouve». «Je pensais a toi dans mon agonie, j’ai verse telles gouttes de sang pour toi».
— Seigneur, je vous donne tout.
«Tu ne me chercherais pas, si tu ne me possedais. Ne t’inquiёte pas»).
В отдании себя, не Богу вообще, а снисходящему в любви и самоуничижении Богу — ответ: ибо этим Он заполнил пропасть нашей «misere», нашей нищеты, нашего ничтожества и нашего страдания.
Нет другого выхода, другого решения, как Любовь Божия, заполняющая пропасть. Этим устанавливается новая иерархия ценностей:
«Бесконечное расстояние, отделяющее тела, от области умственной, символизирует вместе с тем еще бесконечно более бесконечное расстояние между деятельностью умов и Высшей Любовью, ибо оно сверхъестественно …
Все тела, небесные пространства, звезды, земля и все её царства не стоят малейшего из умов. Ибо он знает всё это и себя, а тела — ничего.
Все тела, взятые вместе, и все умы, взятые вместе, и всё, что они произвели, не стоят малейшего движения Любви. Последняя принадлежит порядку бесконечно более возвышенному.
Из всех тел, взятых вместе, нельзя выдавить малейшей мысли: это невозможно и принадлежит к другому порядку.
Из всех тел и всех умов нельзя извлечь малейшего движения истинной Любви: это невозможно, и другого порядка — сверхъественного». (Не привожу здесь изумительного французского оригинала, ибо это — одно из самых знаменитых мест во французской литературе).
Началась новая жизнь, состоящая в отказе от самоустремления. Один центр жизни заменился другим. Я, как центр моей жизни, заменился Богом. И среди преходящести, болезней, слабости и постепенного умирания, которое есть наша жизнь, началась Жизнь в Боге, вдохновляющая на подвиг, дающая и радость подвига и радость творчества. Смысл и закваска мировой жизни — в подвиге любви бесконечно отдающего Себя в любви Бога, даже до смерти. Смысл нашей жизни — последовать в этом Богу, отринув мелкое себялюбие, служение своему «я» («le moi est haissable»: «я» — ненавистно).
Крест приковывает внимание Паскаля. В Кресте Христовом открылся для Достоевского ответ на вопрос о смысле страдания, о том, можем ли мы (вопрос Ивана Карамазова) «принять мир», сотворенный Богом и ведомый Богом куда–то через страдание и окружающее нас зло. Если Бог — соучастник с нами в нашем страдании, наш брат, товарищ по страданию, тогда страдание освящается Его присутствием; не объясняется, но преображается.
Современная искательница Бога, замечательная по силе своего духа и по своему горению духовному Simone Weil (t 1942) в факте распятия и оставленности Сына Божия увидела величайшее из величайших явлений Бога: в бездне нашего отчаяния Он с нами. Дальше идти нельзя. Самая глубочайшая бездна оставленности; и там, разделяя с нами эту оставленность — Сам Бог. От высоты и величия Бога до бездны отчаяния нашего и страдания нашего расстояние заполнено, пропасть заполнена Крестом Христовым, добровольным самоуничижением — ради нас — Бога. Итак, закон мира есть не закон ужаса, а закон любви, побеждающей ужас.
К этому пришел Паскаль, нашел здесь и опору, и вдохновение, из которых расцвел его огромный талант, и более того — нашел: «уверенность, радость, мир» (Certitude, Certitude … Joie, Paix), опору в жизни и опору в смерти, заполнение и жизни, и смерти открывшимся Преизбытком Жизни.
Иван Васильевич Киреевский и его учение о познании истины
В 1956 г. году исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения Ивана Васильевича Киреевского (род. 1806 г.) и столетие со дня его кончины (11 июня 1856 года).
Этот скромный человек, высоко ценимый своими друзьями, (а друзьями его были А. С. Хомяков, поэт Веневитинов, кн. В. Ф. Одоевский, А. И. Кошелев, историк Погодин, поэт Баратынский, Аксаковы, В. А. Жуковский, его дядя, и наконец Пушкин), но мало при жизни известный широкой публике, является одним из вершинных пунктов русского духовного развития, русского культурного творчества 19–го века. Человек большой культуры, изучивший еще в юные годы в родной семье шесть языков, знаток литератур французской, немецкой, английской и даже отчасти испанской, любитель классической древности, Киреевский вместе с тем исполнен страстного интереса к вопросам философского миросозерцания и обладает острым философским умом. В 1830 году 24–х летний Киреевский отправляется в западную Европу — главным образом в Германию и слушает в Берлине Гегеля, а также знаменитого географа Риттера и богослова Шлейермахера, а в Мюнхене он посещает философские лекции Шеллинга и знакомится с ним лично. Он с восторгом напитывается западной наукой и немецкой идеалистической философией. Но вместе с тем назревает в нем внутренний протест против западной отвлеченности мысли, ее схематичности и отдаленности от жизни, против западного крайнего субъективизма и в делах веры. Знаменитый протестанский богослов Шлейермахер представляется ему искренним и благородным человеком и мыслителем, но не имеющим мужества веры, почтенной и живописной развалиной 18–го века, поросшей плющем. Киреевский жаждет целостного знания, он хочет, чтобы Истина захватила всего человека, а не только его разум. Истина может быть нами усвоена не чистым теоретическим путем, а врастанием в нее всею нашею жизнью. Киреевский есть прямой предшественник «христианских экзистенциалистов» нашего времени (Gabriel Marcel). Он сродни по мысли Паскалю, он непосредственно повлиял на миросозерцание своего друга А. С. Хомякова (а через него и на Достоевского). Чрезвычайно интересно и значительно в Киреевском то, что в нем мы видим яркое проявление творческого синтеза между философской мыслью европейского Запада и духовным опытом Православного Востока, при чем этот духовный опыт учителей Православного Востока — Исаака Сирина, Макария Египетского, Аввы Дорофея и др. является для миросозерцания Киреевского решающим. Но к этим отцам и наставникам духовной жизни Православного Востока Иван Киреевский перешел через русское старчество — через духовное руководство старца Филарета Новоспасского монастыря в Москве, а потом — знаменитого оптинского старца Макария. Уже к 1839 году миросозерцание Ивана Киреевского, повидимому, сложилось (как мы видим это из известного письма его к Хомякову). Но лишь в 50–х годах, незадолго до его смерти, изложил он свое миросозерцание в двух очерках напечатанных в «Русской Беседе», которые, повидимому, являлись отрывками или набросками более обширного труда. Центральный вопрос для философской мысли Киреевского это — пути познания Истины и характер этого познания: как познаем мы основную исконную божественную Истину, которой и из которой живет всё?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: