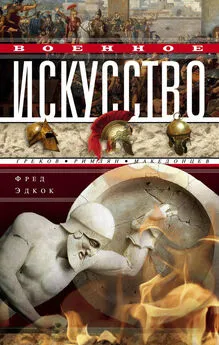Алексей Лосев - Мифология греков и римлян
- Название:Мифология греков и римлян
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Мысль» Российский открытый университет
- Год:1993
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Лосев - Мифология греков и римлян краткое содержание
А. Ф. Лосев "Античная мифология в ее историческом развитии", "Теогония и космогония". В конце книги - статья Тахо-Годи, посвященная изысканиям Лосева в области античной мифологии и история создания означенных текстов.
А. Ф. Лосев - Юбилейное собрание сочинений в 9-и томах. Том 5. Исходный PDF -http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3478966.
Мифология греков и римлян - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Eustath. (П., р. 1166, 17 и сл.) рассказывает, что это был первый совместный танец мужчин и женщин, на что и намекает Софокл в своих словах о кносском танце в Ai. 700. Лукиан (De salt. 49) перечисляет такие темы для танцев на Крите: Европа, Пасифая, два быка, Лабиринт, Ариадна, Федра, Андрогей, Дедал, Икар, Главк, Полиид, Талое. Плутарх (№ 48 b) сообщает о заимствовании у Тезея этого лабиринтного танца, названного де–лосцами «журавль». Этот «журавль» описывается у Пол–лукса (IV 101) так: ««Журавль» танцевали все вместе один за другим рядами, причем на обоих концах каждого ряда были свои вожаки». Вергилий (№ 57 а) красочно изображает игры под названием «Троя», которые были восстановлены в Лациуме Асканием в подражание якобы древним троянским обычаям. Своими запутанными движениями они напоминали, как он говорит, критский Лабиринт.
Однако эту теорию А. Кука нельзя считать вполне доказательной и убедительной. Если в танцах изображался Лабиринт, то это еще далеко не значит, что он и был той площадкой, на которой они происходили. И если были здания с полами, на которых изображались разного рода замысловатые фигуры, то это еще вовсе не значит ни того, что танцы происходили по этим фигурам, ни того, что эти фигуры назывались лабиринтами. Кроме того, теория Кука до некоторой степени противоречит сама себе, потому что, насколько можно судить, он вовсе не отрицает того, что под Лабиринтом надо понимать целые постройки. По крайней мере, говоря о распространении лабиринтов с востока на запад, он приводит тексты о лабиринтах как именно о постройках (№ 55, 56 а, b).
г) Наконец, было высказано мнение о том, что Лабиринт есть, собственно говоря, храм Зевса Лабрандского на Крите (Лабранда — местность около Милазы в Ка–рии), т. е. Labrynthios, поскольку основным символом и атрибутом этого Зевса является двойной топор (по–гречески labrys). Это предположение является весьма правдоподобным в разных отношениях. Общеизвестна близость критской и малоазиатской мифологии. Общеизвестно огромное распространение культа двойного топора на Крите и в Малой Азии. Зевс Лабрандский есть один из древних хтонических Зевсов, а Критский Зевс тоже главным образом хтонический. Самая этимология слова «лабиринт» от labrys, конечно, имеет все преимущества перед такими фантастическими этимологиями 9как у Свиды и Гесихия (№ 59 а), или перед такими отдаленными предположениями современных ученых, как то, что слово это — от аттической горы Лаврион, известной своими серебряными рудниками, причем пришлось выдвинуть на первый план греческое слово layra в значении «часть, отделение или проход».
Какой же анализ можно было бы дать мифу о Лабиринте, исходя из современного состояния мифологической науки?
8. Историческая характеристика Лабиринта, а) Прежде всего необходимо учесть основное содержание этого образа и дать ему соответствующую историческую квалификацию. Этот образ сооружения или пещеры с бесчисленным количеством извилистых коридоров и запутанных помещений по своему непосредственному содержанию очень показателен для архаического или хтони–ческого мышления вообще. Если раздельному мышлению с выделением формально–логических категорий предшествует мифологическое мышление без этого разделения и если ясной и раздельной антропоморфной олимпийской мифологии предшествует спутанное, дисгармоничное мышление, ярко сказавшееся в создании образов, бесконечно разнообразных и рассчитанных на первобытный ужас страшилищ и разного рода полулюдей, полуживотных, то Лабиринт надо рассматривать как наглядную иллюстрацию такого мифологического мышления. Здесь нет того, чем прославилась позднейшая греческая мифология, нет чувства меры, нет соразмерности и пластичности, нет гармоничного равновесия между внутренним и внешним. Лабиринт — это что–то бесконечно запутанное, хаотическое, стихийное, гибельное и ужасающее. Нам кажется, что это один из самых глубоких образов архаического и хтонического мышления вообще, редкий по своей выразительности даже для античной Греции. Тем самым этот образ коренится, конечно, в отдаленной эпохе развитого матриархата, а вернее, восходит даже к еще более ранним временам.
Однако свести этот образ на архаику матриархата невозможно: в нем много разного рода элементов, связанных с различными стадиями развития общинно–родовой формации вообще.
б) Прежде всего необходимо отметить космическую значимость этого образа, характерную вообще для древнего хтонического мышления. Может быть, только на последних своих ступенях хтоническое мышление является хтоническим в узком смысле слова, т. е. связанным только с землей. В более ранние периоды земля вообще ничем не отличается ни от неба, ни от подземного мира и представляет собой единое и нераздельное с ним общекосмическое тело, так что все земное (в том числе животные и человек) есть в то же самое время и небесное. Поэтому нередко встречалось понимание, например, пещер как символов неба или космоса. Порфирий в своем известном трактате «О пещере нимф» занимается не чем иным, как только реставрацией когда–то реально понимаемого отождествления пещеры и космоса. Вот почему, даже если бы не было никаких специальных указаний в источниках, мы должны были бы уже заранее предполагать, что такая пещера или постройка, как Лабиринт, обязательно имеет помимо других значений еще и космическое значение. Это подтверждают и источники.
в) Но в образе Лабиринта находим не только общекосмические, но и чисто исторические черты.
Во–первых, как мы уже указали выше, самое название Лабиринта приводит нас к культу Зевса Лабранд–ского и вместе с тем в область малоазиатской хтониче–ской религии и мифологии, исторические горизонты которой определяются довольно точно. Входя в эту стихию, мы сразу оказываемся в окружении таких представлений, как — о двойном топоре, а двойной топор — это тоже, как мы указывали выше, вполне определенная историческая эпоха. Вместе с тем малоазиатская архаика вводит нас в атмосферу хтонических культов Великой матери, связанных с матриархатом и начальным патриархатом. Лабиринт — это, несомненно, прежде всего культовый танец; и еще большой вопрос, что было сначала: Лабиринт — пещера или Лабиринт — культовое действие и танец. Советский исследователь В. Л. Богаевский в работе «Минотавр и Пасифая на Крите в свете этнографических данных» (Сборник Академии наук СССР в честь акад. С. Ф. Ольденбурга. Стр. 95—113) на основе большого этнографического материала с успехом развивал в области мифологии Минотавра и Лабиринта точку зрения именно культового танца, возникшего в связи с эволюцией земледелия и скотоводства на Крите в течение среднеминойского периода. Если связать Минотавра и Лабиринт с культовым танцем, то сделается вполне понятным, что оба эти мифологические образа рано или поздно переходили в театр и превращались в бутафорию, маски, рисунки — принадлежность более или менее светского представления. Но переход от культового действия к театру — это тоже нечто исторически и хронологически вполне определенное, и здесь тоже вполне ощутительно выступают исторические сдвиги, известные нам также и из других источников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: