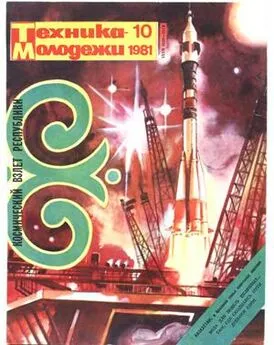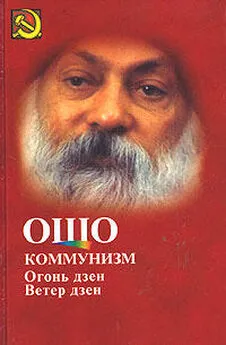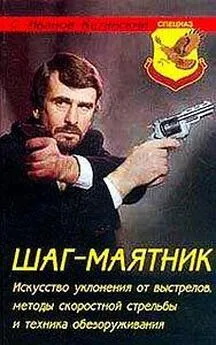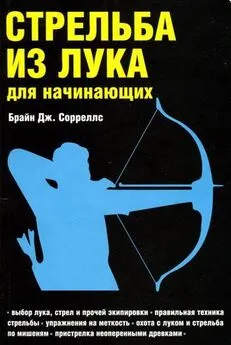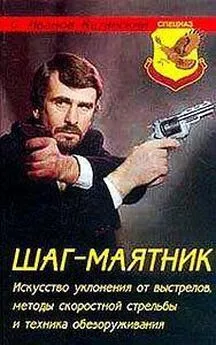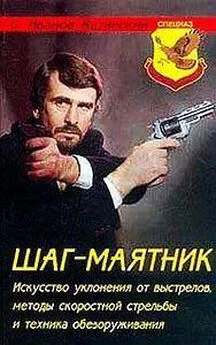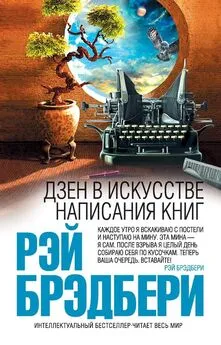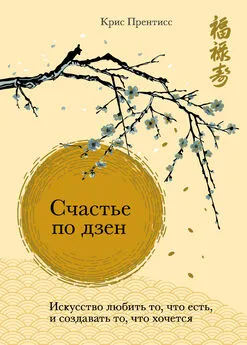Ойген Херригель - Дзен в искусстве стрельбы из лука
- Название:Дзен в искусстве стрельбы из лука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ойген Херригель - Дзен в искусстве стрельбы из лука краткое содержание
Немецкий философ О. Херригель (1884-1955), который работал в Японии и для постижения дзэн осваивал искусство стрельбы из лука, рассказывает о своем собственном опыте. Он знакомит западного читателя со странной и кажущейся недоступной формой восточного мировоззрения. Записки из наследия О. Херригеля, включенные в это издание, дадут ответы на многие вопросы, которые возникнут у человека, сделавшего попытку проникнуть в дух великого учения.
Дзен в искусстве стрельбы из лука - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мы рассмотрим вопрос о влиянии дзэн как такового на отдельные виды искусства. Вернее, влияние сатори и его проявление преимущественно в живописи дзэн.
Потому что таковая существует! То есть существуют произведения, в которых просветленное созерцание бытия становится содержанием картины.
Живопись дзэн
Что для нее характерно? Во-первых, пространство. Оно играет важную роль. Это не европейское пространство с его длиной и шириной, не та гомогенная среда, которая окружает вещи и отделяет их одну от другой. Не мертвое пространство, позволяющее реальным вещам себя подавлять и для большей выразительности разрежаемое слева и справа, сверху и снизу, на переднем плане и на заднем. Не то пространство, которое касается только поверхности тела, объемля его, и там, где оно не заполнено, не только не имеет никакого значения, но даже и не претендует на это. Пространство у дзэнских живописцев производит впечатление вечно-недвижного, и все-таки оно движется, живет, дышит, оно не имеет формы, оно пустотно и безымянно, и в то же время из него формируется все, чему есть название. Благодаря ему все предметы одинаково важны, одинаково значимы. Оно — выражение всеохватного бытия. Поэтому в таких картинах чрезвычайно глубоко значение пустого, незаполненного пространства. Все, что не обозначено и не сказано, все, покрытое молчанием, гораздо важнее и красноречивее, чем все сказанное и обговоренное.
И здесь тоже, как и в актерском искусстве, «нетанцуемый танец» оживляет все сущее, пронизывает, протанцовывает насквозь. Таким образом, пространство — это не гомогенная, сливающаяся с бесконечной далью пустая среда, а непостижимая полнота сущего в его бесконечных проявлениях. Художнику дзэн незнаком horror vacui*, для него пустота достойна величайшего почитания: первоматерия, которая от изобилия не принимает конкретного образа и, чтобы проявить себя, должна оформиться в беспрерывном круговороте. Значит, пространство — это не оболочка вещей, а их сердцевина, основа, глубочайшая сущность бытия. Через такие картины с нами говорит магия пустоты, она притягивает взгляд и требует благоговения. Созерцание картины начинается именно с созерцания пустоты.
* Боязнь пустоты [лат.].
В европейской живописи зритель вне картины. Он воспринимает ее как нечто «противостоящее», разглядывает то, что находится вне его, занимая пространство вплоть до горизонта. Как будто простой взгляд сам по себе созидателен. Если смотреть на картину именно таким образом, то все, что напротив, — это другое, постороннее и осознается именно так; зритель не там, он исключен из картины. А вот в китайской и японской живописи каждую изображенную деталь рассматривают изнутри, так что смотрящий мо-жет воздать должное увиденному, лишь существуя в нем. При этом не только становится беспредметной и исчезает перспектива, но и упраздняется противопоставление смотрящего и того, на что он смотрит. Пространство смыкается вокруг зрителя, который стоит в любом центре, но сам центром не является; он в нем, внутренне сливаясь с пульсом вещей. Одновременно это означает, что все окружающее и обволакивающее его настолько ему равно, что дает почувствовать: оно существует не ради него и не благодаря ему. Это не другое, это он сам в вечно меняющемся образе, с которым он един до такой степени, что теряет самостоятельное значение и погружается в увиденное, а в этом погружении встречается с самим собой и не с самим собой: парящее исчезновение в сущем.
Но предметное в картине, сформировавшиеся из первоосновы образы (и поэтому оценивать их следует, не забывая о пустоте) — горы и леса, скалы и вода, цветы, животные и люди — проявляются в их бытии, погружены в конкретную ситуацию — «здесь и сейчас», и в то же время они не «здесь и сейчас». Отсюда — парение и исчезновение, как будто определенное перетекает в неопределенное, форма — в неоформленность, выявляя тем самым первопричину и происхождение.
Есть пособия по живописи тушью, в которых в основных чертах отражено все, что способно привлечь взгляд художника, — от простой травинки до огромных пейзажей; в общем виде здесь представлено все, что придает природе живой характер. Я говорю вовсе не о шаблонах, которые можно копировать. Скорее это упражнения для развития стиля и умения пользоваться кистью, они свидетельствуют о родстве между написанием иероглифов и живописью. Овладев ими так, чтобы быть в состоянии их превзойти, стать свободным и способным воспринимать и воспроизводить тончайшие нюансы, человек получает возможность изобразить то, что видит и оценивает третий глаз, глаз просветления.
Живопись дзэн связана с величайшими традициями китайской пейзажной живописи до ее контакта с буддизмом. В ней уже сформированы или обозначены характерные для дзэнской живописи черты. Возможно, эти традиции восходят к глубокому и скрытому влиянию даосизма. Из Индии буддизм проник сначала в Китай, где оказал поистине революционное воздействие и пережил там медленное, но именно поэтому более глубокое преобразование под влиянием даосизма. Точно так же, как в ходе истории Китай ассимилировал пришлые племена, так и на духовном уровне он впитал все поначалу чуждое, получив прекрасный и богатый сплав. На самом деле дзэн — это цветок, возможно самый прекрасный и таинственный; это плод творческой силы китайского гения, и неудивительно, что живописцы дзэн могут обращаться к добуддийской китайской живописи в духе даосизма. Потому что в даосизме Лао-цзы представлены многие мотивы, которые составили фундамент дзэн. То, что в даосизме предполагалось, в дзэн стало очевидным.
То, на чем базируется пейзажная живопись, является основой для удивительно одухотворенных изображений мельчайших деталей живой природы. Несколько штрихов — и вот перед нами лист бамбука или ветка, усыпанная цветами. Они тоже возникают из пустого, не имеющего формы пространства, и понимать их следует соответственно. И здесь тоже решающее значение имеет соотношение рисунка и свободной поверхности; мне даже кажется, что тут своеобразное чувство пространства выражается еще более убедительно. Было бы ошибкой считать, что в этих картинах запечатлен прекрасный покой бытия, требующий непрерывного созерцания. Тот, кто действительно умеет «читать» эти картины, за кажущимся покоем ощущает сильное напряжение между становлением и распадом, между появлением и исчезновением, началом и концом, чувствует, как состоявшееся вибрирует в потоке становления и распада — мимолетно, но явно.
Простые, незатейливые картины, на которых изображено крайне мало, наполнены духом дзэн и заявляют об этом столь громко, что зритель чувствует его мощь. Если человек по собственному опыту знает, как во время длящейся часами чайной церемонии влияет на общую атмосферу замена (после перерыва) цветка или висящей на стене картины, когда гости, погружаясь в созерцание, чувствуют, что эта картина раскрывает глубочайшие тайны, которые невозможно выразить словами, и покидают чайную комнатУ обогащенными духовно, то он понимает, какая сила исходит из такой картины.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: