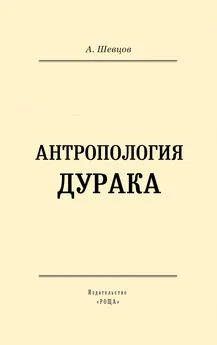Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Женитьба дурака. Теория и предварительная подготовка
- Название:Женитьба дурака. Теория и предварительная подготовка
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательское товарищество Роща Академии
- Год:2007
- Город:Иваново
- ISBN:978-5-902599-13-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Шевцов (Андреев, Саныч, Скоморох) - Женитьба дурака. Теория и предварительная подготовка краткое содержание
Эта книга, написанная как исследование по прикладной Культурно-исторической (КИ) психологии, в сущности, является одной из частей Науки думать. Весь первый раздел взят из «Введения в Науку думать» и составляет теоретическую основу исследования.
Во второй части помещены материалы большого семинара по науке думать, проводившегося в Академии самопознания в январе 2008 года. Семинар назывался «Женитьба дурака» и работал на материале Любжи.
Женитьба дурака. Теория и предварительная подготовка - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А разве это другие действия? Ведь это то же самое избиение, как и ругань и обзывания дураком. Что такое ругательства? Это же брань. А брань — это битва, бой. Вот и бьют, ругаясь, то есть бранясь. И если мы задумаемся о том, что такое вред, то лишение премии — это совершенное зеркальное подобие того вреда, что причинил дурак. Но что он причинил?
Он ухудшил наше выживание. Это и есть вред.
А избиение? Разве избиение, особенно сильное, не ставят тебя на грань смерти? И тем самым, разве дураку не объясняют, что такое дурак, через понятие выживания?
Но тогда, говоря, что я дурак, мне говорят, что я на краю смерти или, по крайней мере, движусь к ней.
Значит, дурак — это пограничник, который живет на грани смерти. По крайней мере, гораздо ближе к ней, чем все остальные — умные люди. Следовательно: умно избегать смерти и глупо играть с ней и не убегать от нее.
Это огромные образы, это мифология и философия…
И вот Синявский приходит к выводу: «… дурацкое поведение оказывается необходимым условием счастья — условием пришествия божественных и магических сил» (Т.ж.).
Да, действительно, дурак в сказке всегда оказывается в средоточии волшебных действий, вокруг него закручиваются чуцеса. И ведь это соответствует многим философским и религиозным воззрениям на недеяние или упование на волю божию.
«Здесь (как ни странно звучит это слово) философия Дурака кое в чем пересекается с утверждениями некоторых величайших мудрецов древности, («я знаю только то, что я ничего не знаю» — Сократ; «умные — не учены, ученые — не умны» — Лao-цзы), а также с мистической практикой разного религиозного толка. Суть этих воззрений заключается в отказе от деятельности контролирующего рассудка, мешающей постижению высшей истины. Эта истина (или реальность) является и открывается человеку сама в тот счастливый момент, когда сознание как бы отключено и душа пребывает в особом состоянии — восприимчивой пассивности.
Разумеется, сказочный Дурак — не мудрец, не мистик и не философ. Он ни о чем не рассуждает, а если и рассуждает, то крайне глупо. Но, можно заметить, он тоже находится в этом состоянии восприимчивой пассивности. То есть — в ожидании, когда истина придет и объявится сама собою, без усилий, без напряжения с его стороны, вопреки несовершенному человеческому рассудку.
Отсюда, кстати, народные и просто общеупотребительные разговорные обороты — вроде «везет дуракам», «дуракам счастье», «Бог дураков любит», — которыми широко пользуется и русская сказка» (Т.ж.39).
Я бы добавил к этому: да, дурак сказки не мудрец и не философ. Он даже не мистик. Он не ставит себе целью жить в недеянии и позволении. Он живет таким образом, можно сказать, случайно. Это народ, помня о том, что за такой жизнью есть путь и сила, выбирает из множества случайных жизней те, о которых стоит рассказывать. А рассказывать стоит лишь о тех, в которых такая жизнь увенчалась успехом. А если такого совпадения и не было, о нем стоит мечтать.
И народ мечтал, а значит, чуял, что за здравомысленной жизнью есть сила, но и за жизнью дурацкой тоже. Причем, за жизнью здравомысленной есть сила выживания. Если живешь здраво, то обязательно будешь иметь свою синичку в руках, то есть свой кусочек силы размером с краюшку хлебца с маслицом. А вот жизнь в недеяниии трудней, но и сорвать можно много, ох, много! Дураков не просто Бог любит — их царствие небесное, как нищих духом!..
«В основе этих алогичных представлений, однако, действует определенная логика. Почему «Бог дураков любит»? Во-первых, потому, что Дураку уже никто и ничто не может помочь. И сам себе он уже не в силах помочь. Остается одна надежда: на Божью помощь. Во-вторых, Дурак к этой помощи исполнен необыкновенного доверия. Дурак не доверяет — ни разуму, ни органам чувств, ни жизненному опыту, ни наставлениям старших. Зато Дурак, как никто другой, доверяет Высшей силе. Он ей — открыт » (Т.ж.).
Прекрасное рассуждение, за исклю-чением одной неточности: дурак не доверяет разуму. Это не так. Вспомним еще раз сказку:
«Едет домой, а лошаденка была такая, знать, неудалая, везет — не везет! «А что, — думает себе Иванушка, — ведь у лошади четыре ноги, и у стола тож четыре; так стол-то и сам добежит». Взял стол и выставил на дорогу».
Нельзя сказать даже, что Дурак не доверяет здравому смыслу — он вполне ему мог бы доверять, просто он его не воспри-нимает, не впускает в свое сознание. Как и жизненный опыт других людей. Но разуму он доверяет, и вполне разумен: ведь это явный пример работы дурацкого разума. Просто Синявский, увлекшись красивым сказочным образом дурака, не дал себе труда дать определение разуму. Дурак чрезвычайно разумен и даже рассудителен! Вот только разум его неполноценен.
Эта неполноценность если не ключ к магическим силам, то уж точно дверь в те состояния, в которых силу можно раскрыть в себе или добыть в мире. Насколько народ запомнил их, конечно. И это как-то связано с разумом, лишенным знаний. Синявский говорит об этом на примере забредшей в шестнадцатом веке на Русь рыцарской повести о Бове Королевиче, которая была превращена русским мужиком в народную сказку:
«В итоге Бова-Королевич превратился в русского сказочного героя. Притом — не в дурака, а в храброго богатыря. И вдруг у этого Бовы-Королевича — чисто текстуально — устанавливается связь с Иваном-дураком. В русском варианте «Повести о Бове-Королевиче» говорится: «И пошел Бова куды очи несут, и Бове Господь путь правит».
Всего две фразы — скрестились. Стоит герою не знать (окончательно не знать — куда идти), как вмешивается Господь, и начинает направлять и указывать ему правильную дорогу » (Т.ж.с.40).
Тут Синявский не прав: дорога как раз не правильная. Она божья! И достигается она тогда, когда человек теряет знания о том, как жить…
«В широком смысле слова, всякий, любой герой волшебной сказки это где-то, в принципе, Дурак. Хотя таким словом он далеко не всегда именуется и может быть нормальным человеком и даже каким-нибудь прекрасным и умным царевичем. Но слово «дурак» незримо стоит за ним. Потому что никакой царевич, никакой королевич в волшебной сказке сам по себе, как человек, ничего собою не представляет и ничего не стоит. И благодаря этому отсутствию собственных способностей (т. е. благодаря пассивному или, назовем это условно, «дурацкому» состоянию) он и выигрывает с помощью магической силы.
Высшая мудрость или магическая сила к Дураку всегда приходят извне, со стороны. Приходят только потому, что он — Дурак и не может ни на что другое рассчитывать. Потому он и не хочет ничего делать» (Т.ж.с.40–41).
Даже если все не так просто, бесспорно то, что сказка рождалась тогда, когда мир жил не социальным устроением, а силой магии. Сказка древнее всей прочей литературы, и посвящена она силе, красоте, волшебству.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: