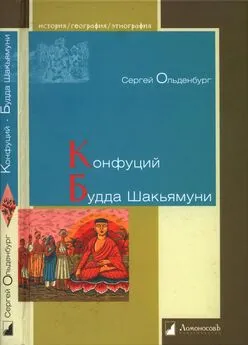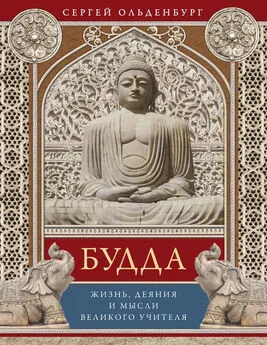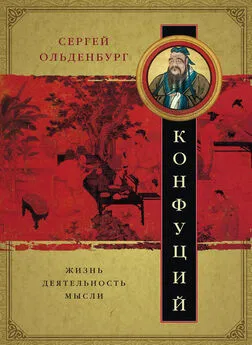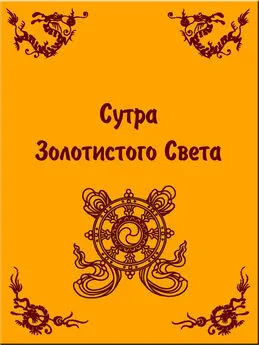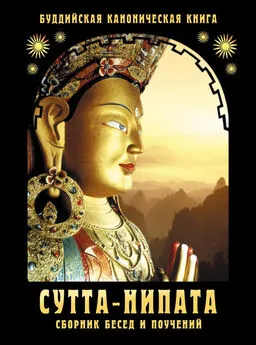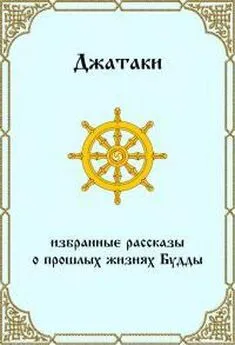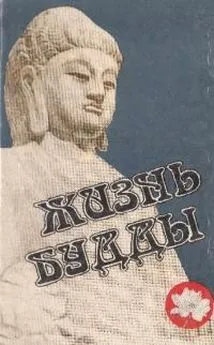Сергей Ольденбург - Конфуций. Будда Шакьямуни
- Название:Конфуций. Будда Шакьямуни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-158-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Ольденбург - Конфуций. Будда Шакьямуни краткое содержание
В книгу включены биографии китайского мыслителя Конфуция и основателя буддизма Будды Шакьямуни, написанные выдающимся востоковедом, одним из основателей русской индологической школы, автором многочисленных трудов по истории, религиям, искусству Востока, академиком Сергеем Федоровичем Ольденбургом (1863–1934). Впервые они вышли отдельными изданиями в 1891 году в Биографической библиотеке, основанной просветителем Флорентием Павленковым и позже ставшей прообразом знаменитой серии «Жизнь замечательных людей». В этих биографиях, написанных в расчете на широкую читательскую аудиторию, собраны все достоверные сведения о Конфуции и Будде Шакьямуни и попутно рассказано немало интересного о жизни Китая и Индии в древности.
Конфуций. Будда Шакьямуни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
— Нет у меня силы поднять голову, чтобы взглянуть на вершину Тай-Шана!.. Члены мои — как подгнившие стропила здания; я поблек, как трава!.. Кто после моей смерти возьмет тяжкий труд поддержать мое учение?!.
Эти слова сожаления, что некому будет поддержать его заветы, были вместе с тем и его последними словами. Вскоре он впал в беспамятство и после семидневного бессознательного состояния скончался на 73-м году жизни, в 479 году до Р.Х. При совершении похорон Конфуция строго придерживались древних обрядов.
Сын его умер ранее отца, а внук Цзы-си был еще малолетен и не мог принять участия в погребальных обрядах, вследствие чего эту обязанность приняли на себя два ученика покойного философа.
Закрыв глаза усопшего, они вложили ему в рот три щепотки рису и облекли труп в одиннадцать различных одеяний; из них верхнее было то, в котором покойный мудрец являлся обыкновенно ко двору. На голову надели шапки в виде тех шапок, какие присвоены государственным министрам. Почетный знак, медальон из слоновой кости, повесили на шею на шнурке, ссученном из пяти разноцветных нитей. Одетое таким образом тело положили в двойной гроб из четырехдюймовых досок и поставили на катафалк под балдахином. Вокруг катафалка были расставлены треугольные значки, а в изголовье четырехугольная хоругвь. После этого ученики от имени внука покойного купили участок земли. На этом участке были насыпаны три земляных куполовидных кургана; из них средний, предназначенный для погребения, был сделан выше боковых. На нем посадили дерево, иссохший ствол которого сохраняется доныне.
При погребении присутствовали родственники и ученики Конфуция. Предав земле тело покойного, ученики дали обещание почтить память учителя трехлетним трауром. Цзы-Гун наложил на себя шестилетний траур, в продолжение которого жил на могиле своего учителя в специально выстроенной хижине. Прибывшие на похороны с разных концов Китая ученики привезли с собою каждый по дереву и посадили деревья эти вокруг гробницы. Сто человек с семействами поселились близ места вечного упокоения мудреца и образовали деревню, названную Кун-ли; причем, объявив покойного своим господином, просили его внука считать их своими крепостными. Когда князю Лу принесли известие о кончине Конфуция, он воскликнул:
— Небо прогневалось на меня!.. Я лишился неоцененного сокровища!
Желая хотя бы после смерти философа чем-нибудь загладить причиненную при жизни ему несправедливость и обиды, князь приказал построить близ гробницы Конфуция часовню в память его — точно такую же, какие обыкновенно воздвигались князьями в память их предков, — чтобы в этой часовне все ученики и последователи Конфуция могли воздавать почести памяти великого человека по существующим обрядам. В часовне поставили портрет Конфуция, положили на алтарь его сочинения, по стенам развесили его парадные одеяния и музыкальные инструменты, тут же поставили его домашнюю мебель и дорожную колесницу. Открытие часовни было необыкновенно торжественно. Князь Лy признал Конфуция своим учителем. Ученики уговорились раз в год приходить к гробнице учителя на поклонение ему и на богомолье. В течение двух тысяч лет это обыкновение соблюдалось и соблюдается доныне. Кроме того, почти в каждом городе воздвигли впоследствии часовню в память мудреца. При первом богдыхане из династий Хань (за 200 лет до P. X.) обряд воспоминания был признан обязательным и для государей. С этого времени на философа стали смотреть как на святого и воздавать ему божеские почести.
Впоследствии было установлено, чтобы каждый ученый, приступая к экзаменам на ученую степень, или мандарин, вступающий в государственную службу, непременно поклонялся памяти Конфуция в посвященных ему часовнях. Постановление это было введено в 998 году по Р.Х., почти через полторы тысячи лет после смерти Конфуция. При династии Хань Конфуцию присвоили титул куна (герцога, светлости), при династии Тан — титул первого святого, а впоследствии — императорского проповедника. При династии Мин его назвали святейшим, мудрейшим и добродетельнейшим из всех учителей рода человеческого. Живописные и скульптурные изображения его велено было увенчивать императорской шапкой и облачать в царские одежды. Эта высшая степень почета неизменно соблюдается и поныне. Потомки Конфуция были возведены в звание потомственных дворян. При императоре Канси [15] Правил в 1662–1723 гг.
их насчитывалось до 11 тысяч человек мужского пола.
Глава VIII
Как мы видим, опасения Конфуция, высказываемые им перед смертью и не раз в продолжение его деятельности, что некому будет поддержать и распространить его учение ввиду распущенности нравов и ослабления государственной жизни, были неосновательны.
Вместо того чтобы заглохнуть вместе со смертью Конфуция, оно получило необыкновенный рост и укоренилось навсегда в народном сознании.
Почему же так случилось? Конфуций как реформатор не похож на других подобных деятелей в истории; он не внес в жизнь своего народа чего-либо нового, что было бы плодом его внутренней умственной и духовной работы. Он и сам не выдавал себя за творца и провозвестника нового учения, чем он и не был на самом деле. Все, о чем он проповедовал и чему учил, было раньше возвещено древними мудрецами и жило в сознании массы, хотя и в полузаглохшем состоянии. Сам Конфуций, когда его спросили — не лучше ли будет, если он упростит и несколько смягчит свое учение, так как оно не имеет успеха, быть может, потому, что его начала слишком высоки, чисты и недоступны для большинства, сказал:
— Мое учение есть учение, завещанное нам нашими праотцами. Я не имею права ни прибавлять к нему, ни убавлять чего-либо. Я передаю его во всей первобытной чистоте. В отношении к моему учению я то же, что сеятель к сеемым им семенам. Может ли сеятель придать семени иную форму или заставить его дать раньше определенного времени росток и произвести жатву? Дело сеятеля посадить семена в землю, поливать их, заботиться о них — все же прочее не в его власти…
«Мое учение не прямой, обычный путь, — говорил он, указывая этими словами, по объяснению комментаторов, на трудность распространения своих идей, — оно неизменно как небо, которое есть его творец, оно течет как поток с древних времен Яо и Шуня».
Тем не менее учение Конфуция вполне отвечало народному духу, и его воззрения вполне согласовались с воззрениями массы. Конфуций воплотил в себе полнейшее отражение китайского народного характера со всеми его достоинствами и недостатками. Он был чистокровный китаец, «китаец из китайцев», полнейший выразитель народного духа, его миросозерцания. А китаец по своим воззрениям прежде всего был и есть реалист. Он и мыслью, и чувствами всецело привязан к непосредственному, видимому и осязаемому. Все идеальное, все, что выходит за пределы действительности, ему, по-видимому, совершенно чуждо. Китаец в своей жизни руководствуется исключительно одним сухим расчетом, он до крайности сух и безыдеен. Само воображение у китайца развито гораздо менее, чем у других народов. Такой же сухой, рационалистический характер без малейшего следа идеализма видим мы и в учении Конфуция, и в самом Конфуции. Вот почему уставы и формы, заведенные Конфуцием, пережили все перевороты, и всякая попытка заменить отжившую старину новыми и лучшими учреждениями всегда отвергалась с презрением китайцами, так как «князь мудрости все преподал, все сказал, все постиг». Вот почему учение его было принято и проникло в кровь и плоть народа без всяких потрясений и кровопролитий и все китайцы без различия вероисповедания — конфуцианцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: