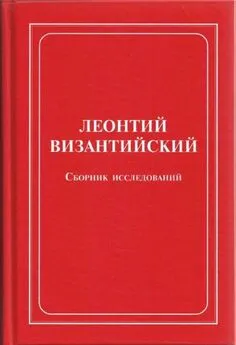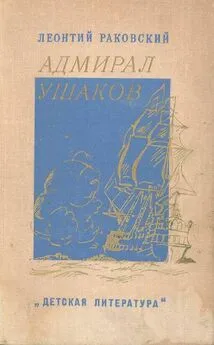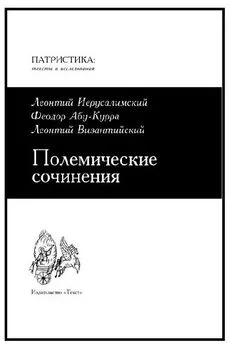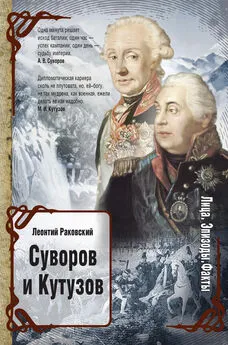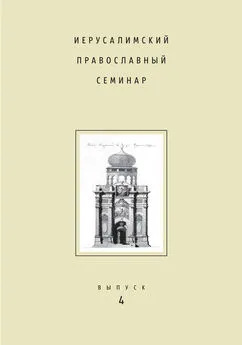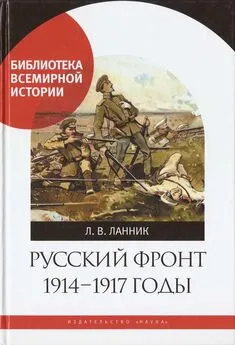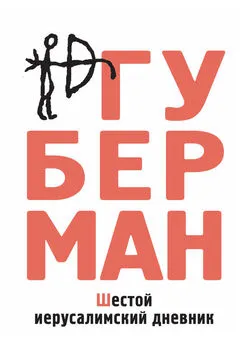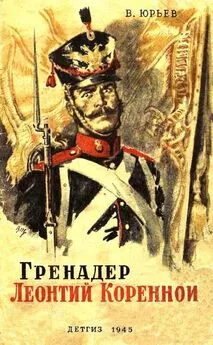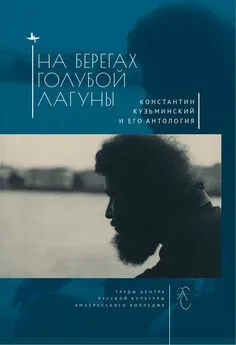Леонтий Иерусалимский - Леонтий Византийский. Сборник исследований
- Название:Леонтий Византийский. Сборник исследований
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр библейск.-патрол. исследований; Империум Пресс
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-9622-0013-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонтий Иерусалимский - Леонтий Византийский. Сборник исследований краткое содержание
***
Редакционный совет Центра библейско-патрологических исследований (программа поддержки молодых ученых ВПМД) Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви:
Иерей Сергий Шастин (настоятель Крутицкого Патриаршего Подворья, Председатель Всероссийского православного молодежного движения и Братства Православных Следопытов)
Диакон Михаил Першин (директор центра, заведующий информационно-издательским сектором Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви)
Иерей Сергий Осипов (технический редактор)
Проф. Д. Е. Афиногенов (научный консультант)
А. Р. Фокин (главный редактор)
М. В. Москалев (председатель Попечительского совета)
Леонтий Византийский. Сборник исследований - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но, говоря о широком распространении монофизитства в Воспетой Церкви, о гласном и негласном покровительстве ему светских и духовных властей, нельзя думать, чтобы в среде православных в то же самое время не было людей стойких и преданных православной истине и ее провозвестнику — Халкидонскому собору. В Константинополе таковыми хотели быть «неусыпающие монахи» (ἀκοίμητοι). В Палестине такую же роль играли монахи — савваиты и синаиты. Особенно из среды палестинских монахов вышли многие высокие поборники Православия, такие как Евфимий и его ученики: Савва Освященный и Феодосий. [33] VII Вселенский собор назвал этих монахов корифеями и вождями монашества (Vita S. Theodosii. PG T. 114).
Они за свою святость и глубокий опыт церковно-религиозной жизни пользовались заслуженной славой и непоколебимым авторитетом у своих современников. О них знали не только на той территории, на которой они жили пли «процветали», по характерному выражению древних памятников, но и далеко за ее пределами, на пространстве всей Восточной Церкви и даже на Западе. Свое благотворное влияние они оказывали как на рядовых мирян, так и на венценосцев, как на современников своих, так и на многие поколения потомков. И не об особых только избранниках, но и вообще о Восточном монашестве нужно сказать, что в эпоху Вселенских соборов оно принимало самое горячее и деятельное участие в религиозных движениях, что оно весьма много способствовало благополучному разрешению сложных вопросов и выяснению истины. Монашество в своих тихих обителях сосредоточило богословское просвещение, покупкой и собственной перепиской оно копило и умножало книжные богатства. Пусть из среды того же монашества являлись и еретики вроде Евтихия, Севира и других, но это только лишний раз подтверждает то, что монашество не было равнодушным к религиозным вопросам, живо реагировало на них и выделяло иногда таких фанатичных людей, которые не могли удержаться в границах должного и впадали в крайности и даже ереси.
Хорошей иллюстрацией ко всему сказанному нами о значении монашества в описываемую эпоху могут служить теопасхитский и оригенистический споры, в которых Восточное монашество принимало самое видное и деятельное участие.
Первый спор имел место при императоре Юстине и возник на почве различного понимания формулы: «Один из Святой Троицы пострадал плотью» (ἕνα τῆς ἁγίας Τρυάδος πeπoνθέναι σαρκί, или в латинском чтении: unum е Trinitate crucifixum esse ). Эта формула употреблялась в Церкви и в богословской литературе давно, [34] Полное согласие данной формулы со святоотеческим учением доказывает подробно на основании свидетельств свв. Афанасия и Кирилла Александрийских, Григория Богослова и особенно Прокла Константинопольского, дословно употреблявшего эту формулу, Иоанн Максенций в сочинении De Christo professio. PG T. 86. Col. 80–82.
и она не возбуждала никаких сомнений и перетолкований, если только в ней под словом ἕνα твердо признавали второе Лицо Святой Троицы — Иисуса Христа, воплотившегося и вочеловечившегося Сына Божия. Нечего и говорить, что с Халкидонским догматом она оказалась при таком понимании в полном согласии. Но этой же формулой в ином уже, конечно, толковании воспользовались монофизиты для популяризации своих идей. Особенное усердие в этом недостойном деле проявил Петр Гнафей, патриарх Антиохийский. Он стал публично учить, что «одно (Лицо) из несотворенной и нераздельной Троицы пострадало», умалчивая о том, кто это — «одно», то есть — какое это из Лиц Святой Троицы, воплощенное ли Оно, и каковым Оно стало по Воплощении. Вместе с тем в Трисвятом на богослужении он сделал вставку: ὁ σταυρωθεὶς διʼ ἡμᾶς «распныйся за ны», которая быстро вошла во всеобщее употребление на Востоке. Римские епископы (особенно Феликс), осведомленные об этом богослужебном нововведении, много писали по этому поводу и выражали справедливое опасение, что указанной прибавкой проповедуется многобожие, отрицается единосущие Лиц Святой Троицы, Воплощение Сына, воскрешаются ереси манихеев и савеллиан. [35] Mansi I. D. (ed.). Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio. Florentiae, Venetiae, 1759–1769. T. VII. P. 1110 и далее: письма епископов Квинтилиана, Юстина, Памфила, Фавста к Петру Гнафею.
Несомненно одно, что сам Гнафей хотел своей прибавкой внести в православное понимание Воплощения Иисуса Христа монофизитскую идею о μία φύσις «одной природе» во Христе: Христос пострадал за нас одной Своей Божественной природой (θεὸς πάσχει — отсюда теопасхизм ), особой человеческой природы после Воплощения Христос уже не имел.
По странной иронии судьбы та же самая теопасхитская формула оказалась весьма пригодной и несторианам для пропаганды ими своего учения. После Халкидонского собора несториане почти совсем стушевались. Халкидонский догмат о том, что Христос есть Единый Сын и одно Лицо и что нельзя разделять Его вообще ни на одно мгновение на две личности, на два сына, отнял у несториан всякую опору их учения. Но с тех пор, как пошло в гору в своем развитии монофизитство, несториане почувствовали, что и для них не все еще потеряно. Успех монофизитов в перетолковании догматических выражений о Христе научил и их употребить такой же прием для проведения своих взглядов. И вот мы видим, что несториане повертывают Теопасхитскую формулу в том смысле, что в ней говорится о Христе, состоящем из двух отдельных лиц: Сына Божия, Который есть εἷς τῆς ἁγίας Τριάδος, ἅγιος ἰσχυρός «един от Святой Троицы, Святой Крепкий», и Сына Человеческого, который есть παθητὸς σαρκὶ, ὁ σταυρωθεὶς διʼ ἡμᾶς «пострадавший плотью, распятый за нас». В возникшей по поводу такой интерпретации полемике православных с несторианами снова стали обсуждаться вопросы о числе Лиц Святой Троицы, об Их взаимоотношении и другие вопросы тринитарного характера. Осторожность и благоразумие требовали отказаться от такой двусмысленной формулы, в которую можно вкладывать несколько пониманий. А в действительности происходило как раз наоборот. Теопасхитскую формулу одобряли к употреблению целые соборы, например, Константинопольские соборы 483 г. и 518 г., ее признавали Константинопольские патриархи Акакий, Македоний и др.
Решительным моментом в судьбе теопасхитской формулы было начало царствования Юстина, когда в столицу прибыли скифские монахи под предводительством и покровительством знаменитого полководца Виталиана. Виталиан настоял перед Юстином на восстановлении церковного общения с Западом (что и состоялось в 519 г.) и на предоставлении православным господствующего положения. [36] В Хронике Виктора, еп. Тунуненского, читаем: «Военачальник Виталики, пойдя с сильным войском в Константинополь... не иначе соглашался на мир с императором Анастасием, как если тот возвратит из изгнания и восстановит на своих кафедрах сосланных защитников Халкидона и возобновит общение Восточной Церкви с Западной» ( Gallandius A. Bibliotheca veterum patrum. Basel, 1578. T. 12. P. 227).
Этот факт послужил толчком к целому ряду новых движений. Скифские монахи, имея в виду борьбу с монофизитами, избрали своим девизом теопасхитскую формулу, которой они и придавали тот смысл, что одно из Лиц Святой Троицы, то есть Ипостасный Сын Божий, пострадал Своей плотью, то есть человеческой природой, соединившейся в Нем с Его Божеством. Однако то самое обстоятельство, что и монофизиты ничего не имели против данной формулы (конечно, в своем истолковании), поставило скифских монахов под подозрение, не суть ли они скрытые евтихианисты. Противниками их выступили в особенности акимиты. Естественно, что в завязавшейся горячей полемике эти последние казались несторианствующими, как настаивавшие на дифизитстве. Скифские монахи искали себе помощи в императорском сановнике — полководце Виталиане, а через него в высших придворных сферах. Но они не только не нашли этой помощи, а вызвали против себя оппозицию. На состоявшемся по поводу жалобы скифских монахов заседании Константинопольского патриарха Иоанна и папских легатов домогательство их о признании православной теопасхитской формулы признано было неосновательным. [37] Suggestio Dioscori diaconi ad Hormisdam papam. PL T. 63. Col. 478CD.
И даже после того как один из этих монахов, Иоанн Максенций, написал два сочинения для оправдания своей формулы, [38] PG T. 86. Col. 75–79.
эта последняя не получила одобрения ни от папских легатов, ни от константинопольской духовной власти. Дело клонилось к тому, что в Константинополе их стали трактовать, как еретиков. Тогда для восстановления своей репутации они отправились в Рим, где и стали добиваться у Римского папы признания православным своего учения и своей излюбленной формулы. Папа не склонен был удовлетворить их. Монахи, в свою очередь, потеряли терпение и стали объяснять нерешительность Римского папы его сочувствием несторианству. [39] Оксиюк М. Теопасхитские споры. Киев, 1913. С. 5. Болотов. Лекции по истории древней Церкви. Т. 4. С. 367 и др.
В результате получилось то, что скифских монахов выслали из Рима, заклеймив именем евтихиан.
Интервал:
Закладка: