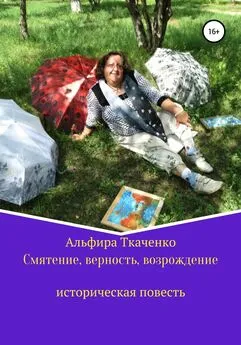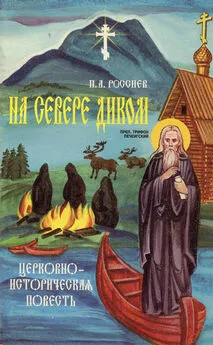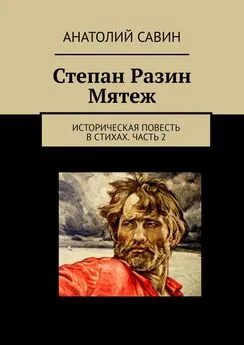Павел Россиев - На Севере диком. Церковно-историческая повесть
- Название:На Севере диком. Церковно-историческая повесть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московское Троицкое Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Русской Православной Церкви
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-7789-0093-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Россиев - На Севере диком. Церковно-историческая повесть краткое содержание
На Севере диком. Церковно-историческая повесть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отцу по душе была Митрофанова скромность и отчужденность от мирских забав. Соблазн, один соблазн эти забавы! Подальше от соблазна — лучше. Кристалл души так-то дольше сохранится, сердце больше останется не загрязненным греховными помыслами, красота внутренняя не увянет. В храме во время богослужения иерей прислушивался к пению и чтению своего Митрофана, и радовал отца его звонкий голос. В этом голосе звучали какие-то особенные нотки, чувствовалась какая-то необычайная проникновенность в чтении сыном кафизм, Апостола, часов. Когда наступало время пения, особенно «Херувимской», у Митрофана вдруг будто крылья вырастали, унося его ввысь, словно он в эти минуты видел сонм ангелов, среди раскрывшихся небес. И неземной восторг, охвативший юношу, придавал его молодому голосу неизъяснимую красоту! Блистали его глаза, румянец вспыхивал на щеках, весь трепетал Митрофан и, трепеща, разливал по убогому храму волны несказанно сладких звуков. И кого бы не захватило такое пение и не оторвало от земли и житейских забот? Отцу не легко было совладать с собою. Когда он произносил возгласы или читал молитву, слышно было, как дрожал его голос. Очевидно, слезы подступали к горлу иерея. Он возвращался после службы домой и говорил:
— Хорошо, прочувствованно, трогательно сегодня пел ты, Митрофанушка, «Хвалите имя Господне»! Слеза прошибала, когда слушал тебя.
Митрофан молчал. Только глаза его все еще блистали, только нет-нет да и затрепещет весь, как голубь или как орленок, который побывал в поднебесье и что-то видел и слышал там, чего не передать бедному словами языку…
По мере того как Митрофан рос, все его помыслы уходили все дальше и дальше от окружавшего его мира. Жизнь, как она протекала в городе, была чужда ему. И люд, населявший Торжок, нисколько не занимал Митрофана, точно он родился в какой-то другой части света, под другими небесами, среди другой природы, а сюда попал случайно и ненадолго и не понимает тут никого и ничего. Укрыться от глаз людских было его любимым делом. И Митрофан прятался в каком-нибудь укромном уголке отцовского дома, где читал, или предавался раздумью, или молился, а то уходил за город — в лес или в поле — и там опять-таки молился, читая или размышляя в дали. Он сроднился с природой, постигая глубокий смысл пустынножительства, и все настойчивее и настойчивее искал в лесных чащах и на широком полевом просторе ответы на вопросы, которые переполняли все его юное существо.
Поля, леса… Когда бы он ни приходил сюда, никого не видать, человеческая нога как будто боится ступить здесь. Там, в Торжке, люди суетятся, волнуются, горят в огне страстей и мелких забот, чаще всего из-за куска хлеба, а тут, как говорится, обок с городом и пустынно, и покойно. Птицы — одни они щебечут и поют, да насекомые жужжат, а зимою по снежным сугробам бегают зайцы, рыщут волки и лисицы. И только. Здесь хорошо созерцать небо, зажигающееся по ночам мириадами огоньков. Каждый огонек, каждая звездочка — ведь это, говорят, око ангельское… Значит, сколько там ангелов! И все они глядят на землю, и на людей, и, стало быть, на него, на Митрофана. Как хорошо! Как отрадно! Как эти ангельские очи согревают душу!..
«Но здесь, — думал Митрофан, — человеку, пожалуй, и нечего делать. Бить зверей, ловить птиц… Зачем? Проливать хотя бы и звериную кровь, неужели это может служить удовольствием для человека? Между тем как там, в пустынях Лукоморья, у Студеного океана, человек нужен, да, да, нужен, но его там нет. Там живут люди подобно зверям и некому научить их жить по-иному. Они невесть что едят, невесть кому поклоняются, и никто, никто не стремится в Лукоморье, чтобы озарить этих людей светом Христовой веры. О, Господи! как страшна их жизнь!..
Отчего они не живут осмысленной жизнью, а пресмыкаются, как гады, или бродят во тьме? Разве Ты их создал не по образу и подобию Своему? Разве Ты не вдохнул и в дикаря душу живу? Разве Ты не дал и дикарю разум? Ты дал, да. Ты дал и дикарям душу живу и разум, и образ Свой, но не уразумели они еще пути к вечному блаженству, не научились молиться Тебе, просить и благодарить Тебя, Подателя благ!.. Когда они смотрят на небо, блещущее звездами, разве они видят ангелов, разве эти звезды для них — очи небожителей? Нет… И оттого-то их души холодны, их глаза не загораются огоньками радости. Они видят небо и не понимают видимого. Небесная твердь страшит их, только страшит. В небесах они не видят Тебя, Господи! Они в страхе падают на землю при блеске молний, при громовых раскатах. Они говорят: то злой дух гневается… Но молнии и гром не оттуда ли, где Твой Престол?.. Господи, Господи!»..
Среди волн Белого моря, на острове, именуемом Соловки, в 1436 году сооружением келии для иноческого поселения было положено начало северной обители. Вскоре здесь инок Зосима построил деревянную церковь Преображения Господня, обнеся ее оградою. Эта церковь и послужила основанием для устроения будущего монастыря. Вскоре весть о новом монастыре разнеслась по Руси, и к нему стали стекаться богомольцы со всех концов государства. В 1465 году в Соловки были перенесены мощи преподобного Савватия, который первый пришел на Белое море и поселился на Соловецком острове, при горе Секирной.
Чернецы, калИки перехожие шли через Торжок в Соловки и обратно, и Митрофан не упускал случая побеседовать с ними о далеком северном крае. Увидя калИку на паперти храма или встретив чернеца на улице, Митрофан зазывал их к себе и, потчуя всем, что имелось в доме, расспрашивал о новой обители, о людях, далекий северный край населяющих, о язычниках-кочевниках, в частности. В свою очередь, побывавшему в Лукоморье паломнику хотелось поделиться впечатлениями, которые отличались яркостью или были бледнее, смотря по рассказчику. Простой горожанин не умел так складно, так красно, так щедро поделиться увиденным, как более грамотный инок или калИка перехожий, много на своем веку потолкавшийся среди разного люда, много повидавший, достаточно наслушавшийся всяких повествований, россказней и бывальщин и кое-что заимствовавший от языка краснобаев. А в тепле иерейского домика, за столом, на котором яства, угощения ради поставленные, дымятся, язык еще больше развязывался и беседа лилась без конца. Митрофан слушал чернеца или калИку и жизнь поморян рисовалась перед ним во всей полноте. Все в этой жизни было необычно, все по-иному — иной уклад, иные нравы.
Митрофан спрашивал чернеца:
— А ты, отче, в бытность свою у преподобного Савватия не видал ли лопи?
Чернец отвечал:
— Лопи-то… Нет, где ж было ее видеть! Она далече от обители. Во Христа не верует, так почто ей в святую обитель приходить? Слыхать слыхивал. Сказывали люди: живет-де та лопь нечестивая, яко «зверие дивие». Шкурой оленей прикрываются, и все токмо сыроядцы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
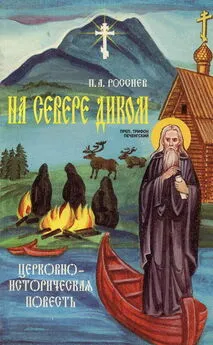
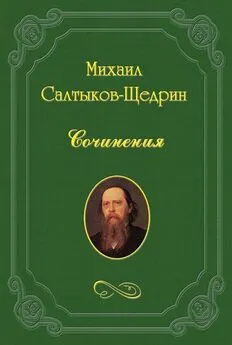

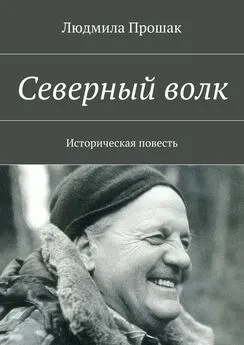
![Вадим Каргалов - У истоков России [Историческая повесть]](/books/1065087/vadim-kargalov-u-istokov-rossii-istoricheskaya-pove.webp)
![Николай Аксаков - Дети-крестоносцы [Историческая повесть для юношества. Совр. орф.]](/books/1069466/nikolaj-aksakov-deti.webp)
![Станислав Жидков - Римский трибун [Историческая повесть]](/books/1089896/stanislav-zhidkov-rimskij-tribun-istoricheskaya-pove.webp)