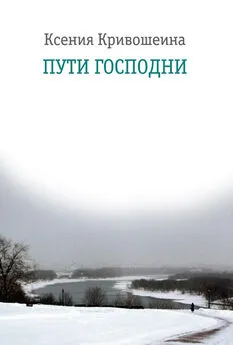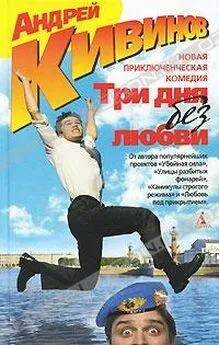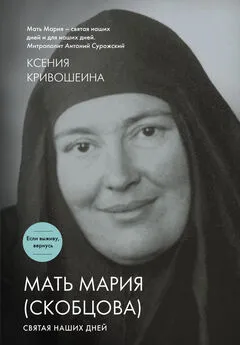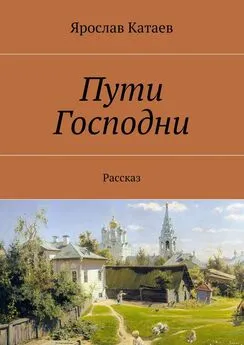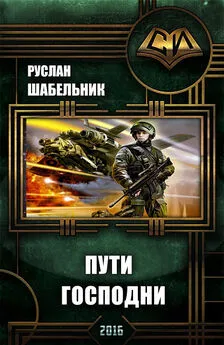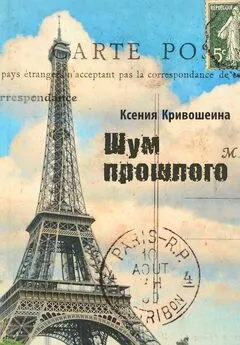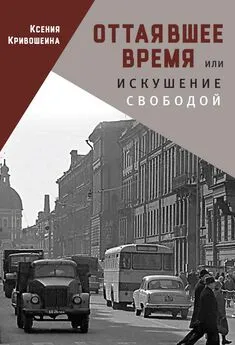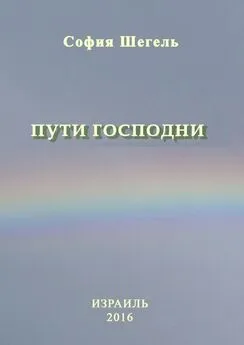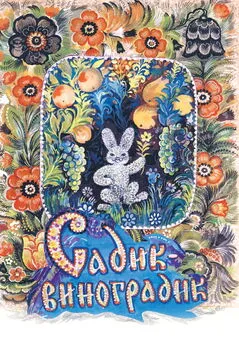Ксения Кривошеина - Пути Господни
- Название:Пути Господни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Сатисъ
- Год:2012
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ксения Кривошеина - Пути Господни краткое содержание
Мемуары писателя, художника, публициста, видного деятеля французского Православия Ксении Кривошеиной. Автор расскажет о своем детстве, матери, няне, встрече с мужем, паломничестве в Дивеево и т. п. Но эта книга выходит их рамок чистой автобиографии: читатель найдет здесь замечательные рассказы о православном Париже, "Православном Деле", Сопротивлении, Владыке Василии (Кривошеине), вере в условиях гонений и эмиграции, в постсоветский период. И главное - во всем этом автор пытается увидеть руку Божью, не свои пути, а "Пути Господни".
По благословению митрополита Санкт–Петербургского и Ладожского Владимира
Рекомендовано к публикации Издательским Советом Русской Православной Церкви
Пути Господни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разбирая мамины полки, в кипе фотографий я нашла совсем маленькую потертую карточку с изображением годовалой девочки в белом пышном платье, сидящей на кресле. На обратной стороне карандашом, крупным малограмотным почерком моей нанайской бабушки написано: «Дорогую мою девочку Лиду поздравляю с днем Ангела». Все‑таки крещена? Так ли это важно? Как будет проходить Высший суд на небесах, по нашим делам или по нашим неумелым, недостаточным молитвам, будет нам даровано прощение или наказание?
Думаю, что я неплохо знаю жизнь мамы. Она родилась на Камчатке, а её дед по матери — на Аляске. От нанайцев мама унаследовала удивительный национальный дар рукоделия, вышивки, фантазии в шитье и росписи по шелку. От предков к ней перешла по наследству и интуиция. «Бывало, утром просыпаешься, а дед запрягает собачью упряжку и едет за сотни километров. Зачем, куда? А потому, что он"услышал"(хотя почты нет никакой), что заболел близкий человек. Нужно ему помочь, принести пищи, разжечь огонь…» «А когда стареет человек, он не хочет быть обузой семье. Ведь и так тяжело живется. Он сам решает, что пора умирать, идет на курган — и веревку на шею.»
Странными, сказочными для меня, девочки, были её рассказы о боге Медведе, о том, как весна приходила за одну ночь и всё покрывалось цветами и медовыми запахами, и так же враз наступала полярная ночь; как можно было ведром черпать в нерест семгу; как к горячим камчатским источникам приходили лечиться не только люди, но и животные. В её (моей) нанайской семье все были охотники, но почем зря зверя не убивали, а бабушка (Куркова) могла попасть белке в глаз. «Дед мой жил на Аляске и был не только охотником, но и мыл золото. Конечно, скупали у него это за гроши, за спирт, за ружьё, даже за американские консервы. Много раз я видела, как его, пьяного, шайтан окуривал да вокруг приплясывал, а потом бабушка его в печку задом сажала.»
Путь от Камчатки, где она запоем читала книги в какой‑то сельской библиотеке, потом стала техником–строителем, а потом приехала в Ленинград поступать в Театральный институт, был ею пройден огромный… Но странности первобытного человека, некая фатальность в характере мамы сохранилась до сих пор. Меня всегда поражало, как она умела справляться с трудностями и одиночеством. Никогда ни на что она особенно не жаловалась.
Любовь и, я бы даже сказала, уважение к животным у неё тоже наследственные. Я даже не помню, когда в нашей семье не было бы кота или собаки, а порой одновременно двух–трех котов и собак, и они вполне «по–Дуровски» между собой дружили. Был в нашей жизни с мамой и деревенский период, когда у нас появились куры, кролики и корова. Всем им были даны имена, всем им у нас хорошо жилось, резать курочек и кроликов мама так никогда и не смогла научиться. Отдавала их соседям. Пиком нашего деревенского бытия стала покупка коровы, которую она ласково назвала Доча и научила меня ее доить… «Знаешь, у лаек необыкновенные голубые глаза! Но для того, чтобы они работали, бежали, их три дня не кормят. Каюр только голосом с ними управляется, никогда их не подстегивает, а на ходу кидает им мороженую рыбу. Сама видела, как мчалась такая упряжка через деревню и на дорогу вышла свинья. От нее через пять минут ничего не осталось, собаки на ходу ее сожрали.»
Первую лайку с небесным цветом глаз я увидела в Париже. Почему‑то в СССР я их не встречала. А после войны никто в квартирах собак не держал, да и кот был редкостью, и хозяевам, выгуливавшим своих четвероногих друзей, вслед частенько неслось: «Вот, самим жрать нечего, а они псов развели». Это относилось и к нам, потому как первая собака появилась у нас в 1950 году. Её звали Бой, очень красивая песочного цвета овчарка, с добрым лицом и большими карими глазами. В 1952 году она с нами поехала в путешествие на Северный Кавказ, где папа писал портреты каких‑то передовых колхозников и проектировал (хотя что он мог проектировать?) павильоны мини–ВДНХ. Помню, что мы жили недалеко от станицы Курганная, где, кажется, снимался фильм, который в народе прозвали «Враки про кубанские казаки». А ещё по нашей местности протекала стремительная и холоднющая река Лаба, приток реки Кубани. Так случилось, что в первый класс я пошла именно там, и меня, девочку, удивляло, на каком странном русском языке все вокруг говорят. Мне не повезло, в этом плодородном краю, благоухающем розами и изобилием «кавунов», я заболела малярией, и помню, что лечили меня хинином, отчего кожа моя пожелтела, тело ослабло, и в свои семь лет я практически разучилась ходить. Для того, чтобы как‑то восстановить силы, меня старались кормить тутовыми ягодами и медом, после чего я возненавидела эти продукты на всю жизнь… Мама вывозила меня на самодельной коляске (скорее похожей на тачку для земли) на берег Лабы. Собака Бой нас всегда сопровождала. Уж не помню, по какой случайности я сползла к самой воде, где стремнина подхватила меня и понесла… Мама закричала, побежала вдоль реки, но вокруг не было ни души и некого было звать на помощь. Бой кинулся в реку, схватил меня за платье и вытащил.
Когда мне было лет десять, мы с мамой гуляли на Елагином острове. Стояла тёплая весна, вокруг прудов цвели кувшинки, летали синие стрекозы, и вдруг я увидела птицу, которая лежала у самой воды и смотрела на меня испуганным глазом. Я позвала маму, и она, взяв её в руки, сказала мне, что пока трудно определить, ворон это или грач, но птенец, видимо, выпал из гнезда. Присмотревшись к птичке, мы обнаружили, что у неё не хватает одной ноги. Мама сказала, что если мы её здесь оставим, она погибнет. Мы принесли её домой и дали имя Карка. Пришлось купить ей клетку, потому что в то время у нас был кот. Птице было трудно двигаться, она довольно неловко прыгала на одной ноге, отказывалась клевать семечки, но постепенно освоилась с людьми, и когда наш кот выходил на улицу, мы выпускали Карку из клетки. Он постепенно стал совсем ручным, и мама решила, что можно попытаться сделать ему что‑то вроде маленькой деревянной ноги. Этот странный протез она мастерила довольно долго из каких‑то палочек, клея и ниток. Когда дошло до укрепления его на теле птички, дело не заладилось. Пришлось нашу затею оставить. Инвалиду Карке жилось у нас хорошо, он довольно шустро приспособился прыгать на своей одной ноге, через год он вырос в ворона, и мама сказала, что это умная птица и мы научим его говорить. Дело до науки так и не дошло. Однажды утром мы обнаружили Карку в клетке мертвым. После этого я никогда не заводила домашних птиц…
«Мама, помнишь нашу Урчу? Как она радовалась, когда попадала на природу, бегала кругами по траве? (Об этой невинной душе рассказ впереди.) А помнишь нашего кота Фильку? Он был очень красивый, тигровый, черно–бело–рыжий, с длинной шерстью, и нашли мы его во дворе у помойки. Больше всего на свете он любил сидеть на дне ванной и ловить язычком струю воды. Ты говорила, что это камышовый кот… А помнишь, еще у нас был кот Тиша? Он был большим донжуаном, весной пропадал, шлялся неделями, возвращался худой, ободранный, еле держался на ногах и заваливался спать.» — «Нет, ничего не помню!» — сердито отвечает мама. А я сержусь и раздражаюсь на неё за этот провал памяти, за то, что я больше не могу делиться с ней своими мыслями, что больше она никогда не напишет мне ни одного письма, которых за нашу жизнь было написано очень много и которые начинались словами: «Курочка моя, доченька моя». Эти письма я только что разбирала и завороженно перечитывала. Сколько детальных описаний, сколько рассказов о друзьях, сколько надежд и планов! Наша переписка сохранилась, особенно за тот страшный год, когда мы были разлучены с ней и Иваном и казалось, что навсегда они останутся в СССР, а я во — Франции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: