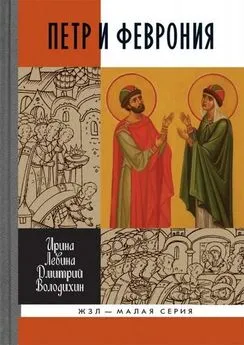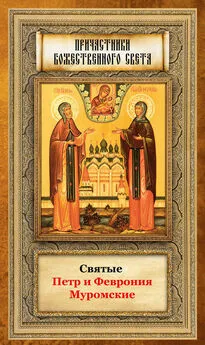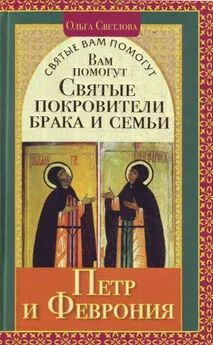Дмитрий Володихин - Петр и Феврония: Совершенные супруги
- Название:Петр и Феврония: Совершенные супруги
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03865-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Володихин - Петр и Феврония: Совершенные супруги краткое содержание
Муромский князь Петр и его жена, простая селянка Феврония, с давних времен почитаются святыми. Ныне же день их памяти, 8 июля, не только отмечен в церковном календаре, но и стал государственным праздником — Всероссийским днем супружеской любви, верности и семейного счастья. Между тем о жизни самой муромской четы нам практически ничего не известно: какую подробность, какое имя ни возьми, всё окружено ореолом тайны, всё порождает разные, порой взаимоисключающие трактовки. Авторы книги и взяли на себя труд разобраться в скрытых смыслах и реальной исторической подоплеке знаменитой «Повести о Петре и Февронии Муромских», в которой представлены образы двух любящих супругов, проживших удивительную, полную приключений жизнь и умерших в один день.
знак информационной продукции 16+
Петр и Феврония: Совершенные супруги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
То есть человеку, принявшему крещение, еще нужно принять бой с бесом, призвав Божью помощь (потому что человеческих сил на этот бой не хватает); только так победа и исцеление, принятые в крещении, закрепятся и приумножат славу Бога.
Если проследить духовный путь князя Петра, то мы увидим разнообразные битвы, одоления… Каков при этом путь Февронии? Мы уже говорили: она подобна мудрым девам из Евангелия от Матфея, наполнившим свой светильник елеем добродетелей и готовящимся войти в Царствие Божие ( Мф. 25: 1–13). Феврония не совершает решительных побед, подобно князю Петру, но ее служение не менее важно: ее добродетели оказываются нужны именно тогда, когда духовное состояние князя находится в опасности.
Дьявол устраивает им «бедствия», покушается на их целомудрие, заставляет делать трудный, порой унизительный выбор. Петр, колеблясь, Феврония же, давая ему добрые наставления, вместе проходят узкой тропой через все испытания и торжествуют над сатанинскими лукавствами.
«Повесть…» говорит читателям — и книжным, и некнижным: крещение — благое начало трудного пути для всякого христианина. Таинственная победа в темных водах Христа над змеем-дьяволом ведет к «бане пакибытия» — очищению, исцелению, просвещению верующего — и, наконец, к его спасению. Шествие по этому пути исполнено трудов, испытаний, смирения, но другого пути нет. Все иные к спасению не ведут.
Ничего более важного в «Повести…» нет. Здесь суть ее, альфа и омега. Тот смысл, ради которого нагорожены все «приключения», — Бог весть, до какой степени претерпевали их исторические Петр и Феврония. Таким образом, «Повесть…» — напутствие в самом прямом значении этого слова. А святая чета — путники, благополучно прошедшие по трудной дороге до самого конца.
Вот и вся «высокая тайна» этого выдающегося произведения русской литературы.
Вроде бы просто…
Как просты любовь или Святая Троица — на первый взгляд.
Глава 8
МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО СКВОЗЬ ПРИЗМУ МУРОМСКОГО КНЯЖЕСТВА
Сколько историков склонялись к тому, что «Повесть о Петре и Февронии» по большей части фольклорное повествование! Цитаты из их книг и статей приводились нами не один десяток раз. Но даже сторонники подобного взгляда на это произведение порой отступали от своей позиции и «привязывали» повествование к совсем не фольклорным реалиям русской жизни XVI столетия. Точнее говоря, к временам правления Ивана Грозного.
Что уж говорить об историках, видевших в «Повести…» реальную историческую основу? Они прекрасно понимали: ее исторический каркас скован молотами двух времен — удельной муромской старины и московской державной современности.
Как же иначе? Столичный книжник середины XVI века имел тот образ мыслей, ту манеру повествования и тот набор идей, которые даровала ему не муромская древность, а его собственная эпоха. И вся его «ментальная оснастка» оставила след в тексте.
Много раз уже упоминался выше дотошный и основательный исследователь — М. О. Скрипиль. Так вот, он утверждает, что «Повесть…» задумывалась автором вовсе не как агиографическое произведение. По его мнению, это скорее не житие, а политический манифест, содержащий протест северных княжеств против объединительной тенденции в политике Москвы. То есть книжник, записавший и литературно обработавший «Повесть…», был, как полагает ученый, сторонником «традиций удельно-вотчинного права», а также «горячим патриотом своего края». А работал он еще до завершения процесса централизации Руси вокруг Москвы, во второй половине XV века.
По мнению М. О. Скрипиля, некий «писатель-консерватор», он же «представитель отживающих сил общества», стремясь сохранить (или возродить) «старые порядки периода феодальной раздробленности», обратился к «сокровищнице народно-поэтического творчества», чтобы усилить позиции «своей группы или класса» [215] Скрипиль М. О. «Повесть о Петре и Февронии» в ее отношении к русской сказке. С. 131, 132, 138–139.
.
Это довольно слабая теория, поскольку трудно ее подкрепить реалиями и сюжетными ходами «Повести…».
Если видеть в Муромском княжестве своего рода идиллию, золотой век древности с ее «идеальными» (как пишет Скрипиль) правителями, где даже боярский мятеж заканчивается быстро и без особых последствий; если воспринимать картины правления двух братьев как своего рода образец облагороженной удельной древности, в которой нет места для державного диктата Москвы, тогда, что ж, по мелочишке наскребается и на «манифест консерваторов».
Но, правду сказать, слишком уж замысловата «Повесть…» для столь прямых и ясных жанров, как манифест или же политический трактат. И слишком много требуется фантазии, чтобы увидеть в художественных образах логику последовательного отрицания того единодержавного централизма, который утвердила Москва.
У Н. В. Водовозова читаем: «Под мнимым историческим прошлым автор Повести развернул яркую картину социально-политической борьбы своего времени. Показал, какой должна быть власть самодержца» [216] Водовозов Н. В. История древней русской литературы. С. 217. Уместно напомнить, что Н. В. Водовозов тоже относил создание «Повести…» к XV столетию, проще говоря, к эпохе складывания единого Русского государства и неуклонного усиления власти московских государей.
. Кроме того, Н. В. Водовозов впервые обращает внимание на детали быта. По его мнению, пиры, на которых выставляются особые столы для князя и княгини, а также и особые суда отдельно для каждого из членов княжеской четы во время речного плавания, да еще и отдельный штат бояр и слуг — детали быта, принадлежащие не к XVI веку, но к более ранней эпохе [217] Там же.
.
Правда, тут напрашивается возражение: автор, если он всё же работал именно в грозненскую эпоху (скажем, тот же Ермолай-Еразм), мог знать старинную обстановку в небольших княжествах или вообще создать обобщенный образ старины. Нет причин думать, что автор «Повести…» обязательно должен был копировать в тексте бытовые приметы своей эпохи.
А вот историк средневековой русской общественной мысли А. И. Клибанов ищет в «Повести…» не старину, а напротив, медленно проступающие черты будущего.
Он преследует цель показать если не революционность идей «Повести…», то ее зачатки. Поэтому, с одной стороны, Клибанов вылавливает «родимые пятна» середины XVI века, а с другой — ищет в ней мысли «прогрессивного» характера, мысли, порывающие с общественной реальностью или хотя бы зовущие к ее изменению.
Получается довольно странно. По Клибанову, Ермолай-Еразм — тонко чувствующий социальные настроения писатель. Под пером историка он получается кем-то наподобие интеллигента-народника второй половины XIX века: чувствует, что надо многое менять, но еще не совсем понимает, до какой степени. Осознанно или невольно, Клибанов вытягивает с изрядной долей искусственности средневекового книжника на роль, ему несвойственную.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: