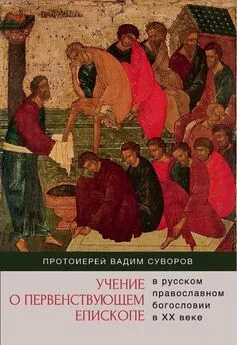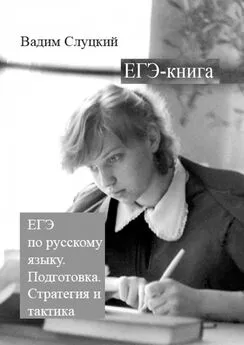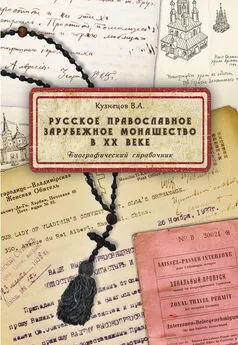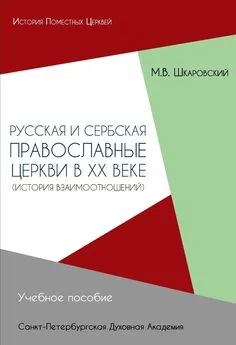Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке
- Название:Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-906960-96-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке краткое содержание
Книга будет полезна всем, кто интересуется русским Православием, историей Церкви, вопросами канонического церковного устройства, церковного права, церковно-государственных и межправославных отношений, православно-католического богословского диалога.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в ХХ веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассмотренная работа Барсова, как и ее критика, данная А.С. Павловым, является яркой иллюстрацией того, что по вопросу толкования церковных канонов, регулирующих полномочия первенствующих епископов, не было единого подхода не в только русской канонической науке, но и в восточноправославной традиции в целом. Это приводило к различным взглядам на каноническое устройство Вселенской Церкви, структуру ее высшей власти и управления, а следовательно – к различным типам экклезиологии.
Развитие церковно-канонического законодательства рассматривалось в русской церковной литературе этого периода, в основном, с исторической или формально-юридической точек зрения. Попытки найти экклезиологическое обоснование идее универсального первенства автоматически вызывали обвинения в «папизме». Критикуя доводы Барсова о необходимости «порядка, стройности и законченности в церковном управлении», Павлов писал, что этой «идее скорее соответствует классический монархизм папской власти» 171. По мнению Павлова, идея порядка и стройности в управлении Церковью осуществляется « принципиально – в божественном учреждении епископата, исторически – в различных органах высшей церковной администрации, не имеющих характера канонической необходимости» 172. Экклезиологическое значение института первенствующих епископов и его каноническая необходимость в функционировании соборной системы церковного управления еще не были в полноте осознаны русским богословием.
Слабость экклезиологического подхода в трактовке церковных канонов. Отсутствие единого мнения по принципиальным вопросам верховной власти и структуры Высшего Управления в Православной Церкви. Зависимость авторов от условий синодальной системы.
Экклезиология в Русской Церкви в начале XX века находилась в зачаточном состоянии. Это явилось причиной того, что среди русских канонистов не было единого взгляда даже на такой принципиально важный для православной экклезиологии вопрос – кому в Церкви должна принадлежать высшая власть. Во многом это объяснялось условиями синодальной системы, в которых находилась тогда Русская Церковь.
Большинство русских канонистов считало, что высшая церковная власть должна принадлежать иерархии, однако были и те, кто, защищая синодальный порядок, полагали, что верховная власть в Церкви принадлежит исключительно императору (Суворов, Гидулянов). Под высшей церковной иерархической властью одни понимали власть Вселенского епископата во всей его полноте (Павлов, Бердников), иные (Барсов) – совместную власть во Вселенской Церкви Римского и Константинопольского иерархов. Ближе к 1917 году в трудах некоторых канонистов стало просматриваться стремление подчеркнуть значение харизматической власти общины в рецепции решений церковной иерархии (Гидулянов) 173.
На рубеже XIX–XX века русские канонисты, историки и богословы констатировали, что современные автокефальные православные Церкви, несмотря на признание Вселенского Собора в качестве своего высшего связующего органа, в действительности живут как отдельные юридические единицы; практическое осуществление соборности на вселенском уровне не имеет четкой организации, и его принципы еще не выяснены православным сознанием.
Н. Суворов в своем «Курсе церковного права» писал: «Что касается отдельных Автокефальных Церквей восточного Православия, то в идее признается Вселенский Собор за высшую церковно-устройственную форму, так что, следовательно, отдельная церковь не признается за самодовлеющий организм, в действительности же православные Автокефальные Церкви существуют как отдельные юридические единицы, которые могут принять или не принять участие в соборе, смотря по соображениям церковного правительства данной страны» 174. По мнению Суворова, «практическая осуществимость идеи Вселенских Соборов предполагала бы прежде всего общее признание за русским царем права на созвание Вселенского Собора. <���…> Право это, исторически унаследованное русскими государями от римских императоров, не выяснено даже в русской литературе, не говоря о других православных странах, а следовательно, не сделано еще самых первых шагов на пути к практическому осуществлению идеи Вселенских Соборов» 175.
Учение о высшей церковной власти императора стало самым ярким проявлением неразвитости русской экклезиологии и ее зависимости от условий Синодального периода. По рассуждениям Суворова, власть первенствующих епископов, включая патриархов, была ограничена известными территориальными округами. Именно христианские императоры сделали возможным созыв Вселенских Соборов – собраний епископов не только в пределах провинций или диоцезов, но и всей Римской империи. Сами же Вселенские Соборы являлись институтом чрезвычайного характера, а не постоянного церковного устройства. Поэтому, по мысли Суворова, они не могли быть олицетворением единой и общепризнанной, постоянной общецерковной власти, пекущейся о Церкви в целом.
«Церковная централизация не могла остановиться на образовании патриархатов: для Церкви, как Церкви Католической, всеобщей, обнимающей всю совокупность христианских общин и совпадающей с пределами всемирной Римской империи, точно так же должен был существовать известный видимый центр единства, centrum unitatis, к которому бы направлялись важнейшие церковные дела, и от которого исходили бы важнейшие церковные распоряжения, как не могла обойтись без центральной власти сама Римская империя, – пишет Суворов. – Вселенский Собор устанавливал нормы веры, а также нормы дисциплинарного порядка по тем отношениями или сторонам церковной жизни, которые в данный момент требовали регулирования; но нужно было, чтобы император созвал Вселенский Собор и утвердил его постановления» 176.
По утверждению Суворова, уже при первом христианском императоре Константине стало ясно, что centrum unitatis для Церкви есть императорская власть: «Император рассматривался как Богом поставленный общий епископ , который имеет преимущественное попечение о Церкви Божией и, при возникновении разногласий, созывает соборы <���…> Император был высшим судьей, к которому обращались осужденные по церковным делам <���…> Император мог по своему усмотрению заместить вакантную епископскую кафедру, что в Константинополе, относительно Константинопольской епископской кафедры, было обыкновенным явлением, а относительно Римской епископской кафедры императору принадлежало утверждение выбранного кандидата» 177.
Суворов отмечает, что ко времени признания христианства Константином Великим Римский епископ пользовался высоким уважением как первый епископ в христианской Церкви. Второй Вселенский Собор в своем 6-м каноне подтвердил первенство Рима, предоставив Константинопольскому епископу второе место в духовно-иерархической лестнице после Римского. Однако власть Римского епископа, согласно 6-му правилу I Вселенского Собора, простиралась только на 17 провинций Италии.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: