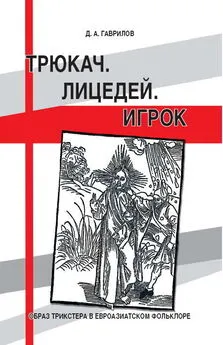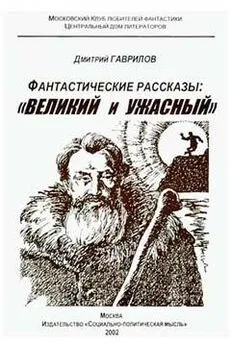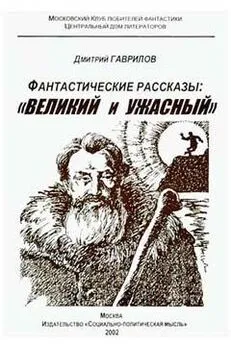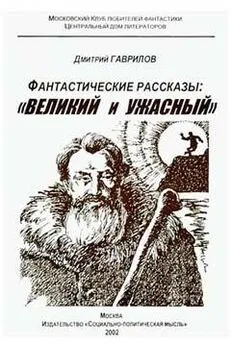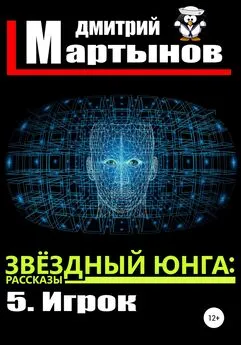Дмитрий Гаврилов - Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре
- Название:Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-98882-096-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гаврилов - Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре краткое содержание
Книга рекомендуется в первую очередь студентам, аспирантам, научным работникам специальностей «философия культуры», «этнопсихология», «религиоведение», но будет интересна и всем думающим читателям, заинтересованным в поисках глубинного смысла событий и идей.
Первый вариант книги под названием «Трикстер. Лицедей в евроазиатском фольклоре» вышел в 2006 г.
Трюкач. Лицедей. Игрок. Образ трикстера в евроазиатском фольклоре - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так, шут говорит, что у него есть плётка, которая оживляет мёртвых. «По сговору с женой он будто бы ссорится с ней, будто бы ударяет её ножом, на самом же деле прокалывает заранее спрятанный пузырь с кровью, а потом ударяет её плеткой, и она оживает. Плетку эту он продаёт за большие деньги. Покупатель убивает свою жену и пробует оживить её плеткой. Плут над ним смеётся. Сказка состоит из цепи подобных проделок. Его враги пытаются отомстить ему и уничтожить его, но это оказывается невозможным – он всегда выходит сухим из воды» (Там же).
«Такие сказки – продолжает Пропп, – для современного человека представляют некоторую загадку. Смех представляется здесь циничным и как будто бессмысленным. Но в фольклоре имеются свои законы: слушатель не относит их к действительности… победитель прав уже потому, что он побеждает, и сказка нисколько не жалеет тех доверчивых глупцов, которые делаются жертвой проделок шута» (Там же).
В комедии драматурга Лопе де Вега (по совместительству, что само по себе забавно, носившего звание familiar del Santo oficio de la Inquisicio’n – добровольного слуги инквизиции) «Собака на сене» лакей Тристан, персонаж с характерными чертами трикстера дважды «разводит на деньги» недругов своего господина, прикидываясь наемным убийцей. Кроме того, переодеваясь греческим купцом, он в самой безвыходной ситуации как будто из-под земли достаёт Теодоро (культурному герою) богатого и знатного отца – старика, которого Тристан без труда убеждает, будто это и есть его некогда похищенный пиратами и проданный в рабство сын:
« Теодоро :
Ты здесь с убийцами моими
О чем-то говорил сейчас?
Тристан:
Нет дурня в городе у нас,
Достойного равняться с ними.
Вот цепь и тысяча эскудо
За то, чтобы я вас убил.
Теодоро:
Послушай, что ты натворил?
Смотри, не кончилось бы худо.
Я изнываю от тоски.
Тристан:
Когда бы вы меня слыхали,
Вы мне бы вдвое больше дали,
Чем дали эти дураки.
По-гречески не так уж трудно
И говорить в конце концов:
Чередованье всяких слов.
Зато же и звучит как чудно,
А имена зато какие:
Астеклия, Катиборратос,
Серпалитония, Ксипатос,
Афиниас, Филимоклия…
Здесь главное – красивый звук,
И если кто точней не вник,
Сойдет за греческий язык.
Теодоро:
Меня терзают сотни мук,
Волненья горести и страха.
Ведь если вскроется обман,
Я столько бедствий жду, Тристан,
Что наименьшим будет плаха.
Тристан:
С такими мыслями носиться!
Теодоро:
Ты – дьявол, вот кто ты такой.
Тристан:
Пусть всё течет само собой,
А там увидим, что случитс я» 5 5 Пер. М. Лозинского.
.
Рассматривая исторические корни русской народной сказки, Ю.И. Юдин в отдельной работе также обращается к образу сказочного шута, дурака, вора и чёрта:
«…Несомненна связь поведения сказочного шута с древнейшими доисторическими верованиями, представлениями и обрядовой практикой. Для того чтобы определить роль этого доисторического элемента, нашедшего приют в бытовой сказке, обращенной к аудитории новой, феодальной эпохи, необходимо выяснить, что же представляет собой сам сказочный шут, каково художественное назначение и социальное задание этого образа.
Бросается в глаза, что сказочный шут не связан ни с одним сословием, классом или известной профессиональной группой населения. Он находится как бы вне социальных связей и вторгается в социальную структуру исторической эпохи как инородное тело. Шут всегда оказывается за рамками всякой житейской обыденности. Он выделен бывает уже самим названием “шут”, указывающим на его непохожесть, необычность, странность, отъединённость от окружающих… <���…> выставляемая напоказ профессия шута является лишь прикрытием, личиной, помогающей обманывать недалеких простаков.
Шутки и шутовские проделки бывают подлинным призванием сказочного героя, выступают истинной его профессией, не признаваемой окружающими за полноценный род занятий. Шутовство – единственная, по существу, сфера его свободной жизнедеятельности, которую он избирает по собственному влечению к ней. Сказочный сюжет поэтому представляет собой ряд эпизодов, в которых речь идет об отдельных шутовских проделках. Эпизодов этих может быть сколько угодно, порядок их тоже не имеет существенного значения. Структура сюжета, следовательно, подчеркивает тем самым существенную характерную черту образа главного героя.
Чрезвычайно любопытно, что шута, наподобие профессионального потешника, другие сказочные герои время от времени приглашают и просят пошутить, сыграть какую-либо шутку, придумать необычную проделку <���…>
Наказание же самого шута готовится произойти открыто, на виду у всех. Его, например, волокут в мешке, чтобы утопить, или привязывают к березе, чтобы побить вальками; чтобы расправиться с ним, его недруги являются к нему домой. Шут даже не пытается найти защиту в законе. Он выглядит, по-видимому, юридически бесправным. И это лишний раз подчеркивает его особое социальное положение человека стороннего и всегда в каком-то смысле лишнего, общественного привеска. С другой стороны, тот же шут пользуется большой и несомненной симпатией не только самого сказочника и его аудитории: окружающие его в сказке действующие лица признают в нем достоинства непревзойденного хитреца и обманщика, а иногда и просто весельчака и шутника, способного вмиг развеять томящую скуку рутинного существования» (Юдин, 2006, с. 82–83).
Сравнивая тексты русских сказок сравнительно поздней, в сравнении с европейским эпосом, записи, мы всё равно найдём те же самые черты того же трикстера, трюкача и лицедея.
«…Даже беглый анализ происхождения сказочных шутовских мотивов обнаруживает несомненную их связь с доисторическими представлениями и верованиями. Однако они выглядят уже вполне современно, а шут не выглядит отягощенным никакими верованиями и предрассудками, он свободен и в отношении к прошлому, и в отношении к настоящему. Он начинен исключительно своими плутнями, но они-то как раз и основываются на очень древнем знании. Оно дано шуту как особое хитрое знание, недоступное уму обычного человека. Он странным образом, как странно вообще его положение среди окружающих, приобщен к этому знанию, и это выделяет его, отделяет от других сказочных персонажей. Он пользуется своим хитрым знанием как оружием. Но шут использует при этом отнюдь не суеверия обманываемых и простаков, и сама сказка вовсе не делает упор на разоблачение и осмеяние суеверий самих по себе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: