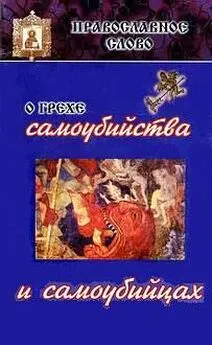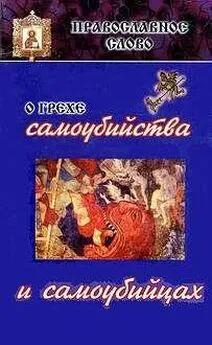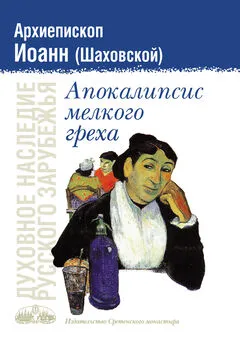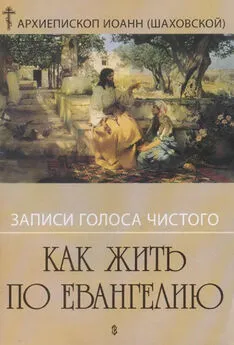Иоанн Шаховской - АПОКАЛИПСИС МЕЛКОГО ГРЕХА
- Название:АПОКАЛИПСИС МЕЛКОГО ГРЕХА
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоанн Шаховской - АПОКАЛИПСИС МЕЛКОГО ГРЕХА краткое содержание
От издателей
Сборник поучительных писаний Архиепископа Иоанна (Шаховского), который мы предлагаем читателям – об апокалипсисе, совершающемся в каждом из нас, об апостасии (отступлении), которое берет начало в наших сердцах, поглащенных самолюбием, самоублажением, саможалением. Не видим „мелких» грехов, привыкли к ним, и они легко, почти нечув ствительно сталкивают нас с единственного, узкого пути, коварно подставляют ножку, „мягкой» лестью принуждают к незаметному рабству. Владыка Иоанн видел многое в жизни, что с ужасающей яркостью напоминало о грядущих последних временах мира, об апокалипсисе. Его юность (он родился в 1902 году) совпала с грозным и мрачным для России временем. Став участником белого движения, он прошел Гражданскую войну: кровь, раны и смерть видел вплотную. В изгнании, в эмиграции, испытал нечеловеческую жестокость Второй мировой войны. Однако в статьях, помещенных в этом сборнике (они собраны нами из разных книг владыки) взгляд его обращен не на мир вообще, но внутрь человека. Это анализ духовного состояния современных людей и, временами, он ошеломляет своей верностью. В словах владыки беспощадное обличение, но оно пронизано святой надеждой, что чистота и свет восторжествуют в нас, и вера Православная даст нам крылья подняться над царством мира сего. И обратимся к Богу с мольбой и упованием: „Омыеши мя, и паче снега убелюся»!
Олег Казаков
АПОКАЛИПСИС МЕЛКОГО ГРЕХА - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Верная и в желании верности пребывающая душа остается всегда в светлой настороженности, она боится не узнать воли Божьей или, зная ее, в чем-либо изменить ей. «Не введи нас во искушение», – молитва всех правдиво сознающих возможность своего невнимания, своей рассеянности, своего увлечения второстепенным и своего падения. Но чувство своей слабости у христианина никогда не переходит в inferiority complex [2]. Наоборот, это чувство есть крыло веры, мужества и утверждения в Боге. Учитывая свою слабость, слабость всех вообще людей и паутинность всего мира, человек ни в чем не полагается ни на себя, ни на что-либо «от мира»; ни в чем земном не утверждает своей последней надежды, И в этом никогда не обманывается.
Сила «страха Божия» рождает в душе отталкивание от зла и влечение к правде. Живущий в свете страха Божия видит в своем сердце все тени. И чем больше вмещает в себе свет Христов, тем яснее видит малейшую свою неверность Богу и горячее ненавидит всякое приближение греха к своему сердцу, справедливо видя даже в малейшем грехе средостение меж Богом и собою. Это постоянное внимание к себе, и рождающаяся от познания движений воли своей светлая ненависть к себе совсем не похожа на ту ненависть к себе, на которую способен в отношении себя человек, любящий только самого себя. Есть евангельская ненависть к себе, и есть демоническая. Человек, живущий во зле, тоже способен подчас искренно ненавидеть себя, презирать и опасаться сам себя за недостаточное свое совершенство во зле. Убийца, устрашившийся, в совести своей, убить свидетелей своего преступления, способен презирать себя за такое «малодушие» и даже «каяться» в нем. Преступник, не сумевший скрыть следов своего преступления, может ненавидеть себя за этот промах. Таких нравственно-перевернутых людей, ходящих нравственно «вниз головою», змей зла жалит конечно, уже не «в пяту», а – в самую голову. Мы видим в мире людей, сознательно приучающих и даже принуждающих себя быть неприветливыми, грубыми, каменными и гордыми с другими людьми (даже иногда особенно с домашними своими); боится тогда человек иметь, или даже только показать, какое-либо участие к другому человеку. Развитие этого чувства и его техническая организация: современный концентрационный лагерь.
Особенно трудным становится нравственное состояние человека когда его душа, словно зараженная апокалиптической «трихиной», включается в какое-либо коллективное зло мира. Тогда люди начинают ненавидеть друг друга и истреблять в силу внешних признаков крови, расы, класса, происхождения или в силу различных изменяющихся в мире идей. В коллективном зле нравственная извращенность имеет больше поводов для самооправдания, хотя самооправдание, психологически, не требует обычно никаких поводов.
Не верящий в мир вечных ценностей и реальностей духа, человек боится быть честным («обеднеешь»), искренним («посмеются»), правдивым («обманут»), добрым («будут эксплуатировать»)… и т. д. Жизнь скрывается под коркой лицемерия, условности. Все делается двоящимся и полуправдивым. Над душами разливается инфернальный свет не от Солнца – Христа, а от фосфора человеческих мозгов и костей.
Вспоминаются большие ночные воздушные бомбардировки городов. Огромная фосфорическая пустыня мертвого света, нечеловеческих огней адских звуков и одновременно какой-то тишины, лунного безлюдья… Кто хотя бы раз видел нечто подобное, не забудет этого неживого света от «елок смерти», светящих над обреченным местом земли, блеска орудийных молний в зареве взрывов и пожаров. Таков свет мира, противосветящий Христову; это есть одновременно и суд над миром, экстериоризация его неистинных мыслей, желаний, – всех полуправд его жизни.
От многих душ в мире тянутся к небу темные струйки копоти страстей – гордости, алчности, злобы, зависти, вожделения. Эта копоть ежедневного бытия сливается над землей в огромное черное облако. Оно распростерто над человеческой жизнью и историей. От него идет по земле тень страха. Этой тени не видят только бесчувственные люди, опьяненные собою, или люди, объятые божественной любовью…
III
Главное страдание ушедшего от Бога человека есть самолюбие . Безблагодатное страдание рождается в кругу неосиянной Богом любви, пре-любви .
1) Любовь к неверной и ничтожной славе своей в мире, 2) любовь к неверным и быстро преходящим ценностям, 3) любовь к телесным наслаждениям и внешнему покою; эти три пре-любви человеческие, соединяясь в одном круге, откидывают в мир люциферианскую тень страха.
«Душа горделивая есть раба страха; будучи самоуверенной, она боится всякого шороха и даже теней» (Лествица, Сл. 21, гл. 4). «Боязливость есть уклонение от веры в ожидании неожиданностей» (гл. 2). – «Хотя все боязливые тщеславны, – говорит св. Иоанн Лествичник, – однако же не все небоязненные смиренномудры», «и разбойники, и гробокопатели не боятся» (гл. 6).
Первую пре-любовь окружает страх бесславия, бесчестия или неполучения от людей желаемой чести. Это боязнь увидеть невнимание к себе, к своим способностям, талантам, совершенствам. В этом состоянии, как пьяницы вина, люди ищут одобрения себе и признания со стороны других людей, даже тех, к которым они совершенно равнодушны. Художник или политический деятель, свысока относящийся к «толпе» (себя из нее выделяющий), в то же время жадно ищет у этой толпы себе признания и поклонения, боясь не найти этого. От мнения других людей человек часто ставит в зависимость свою жизнь. Здесь одна из тяжких цепей общего рабства. Как идолы, одни люди постоянно ищут себе от других людей признания, почета, внимания и уважения. Не заботящиеся о славе Божией, остро заботятся о своей славе и чести. Различны степени и виды этого общечеловеческого, а лучше сказать, бесчеловечного вожделения, и страхов, с ним связанных. У правителей и политиков они выражаются в одном, у людей искусства в другом. В то время как истинные художники, литераторы и музыканты боятся только солгать в своем искусстве, не выразить его последней правды (таков страх и настоящих ученых), поверхностные деятели искусства боятся только неблагоприятной оценки своих произведений, отсутствия похвал и покупателей. Не поверхностной критики они боятся, а всякой критики, воспринимая ее как намеренное унижение их личности. Опьяненный страстью самолюбия и славолюбия становится врагом самому ценному и умному критику. Лишь возвышенное, бескорыстное («аскетическое») отношение к искусству, обращение его на служение Богу, и Его правде в мире, сохраняет и спасает человеческую личность художника от разложения. Тончайшие ответвления славолюбия опускаются глубоко в подсознание человека, особенно находящегося, в силу своего дала, и наибольшей зависимости от мнения окружающих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: