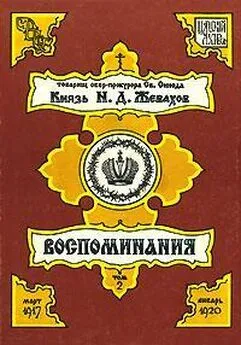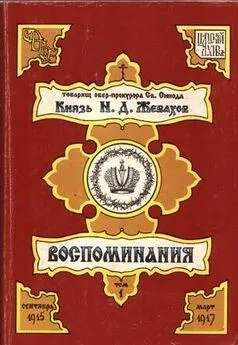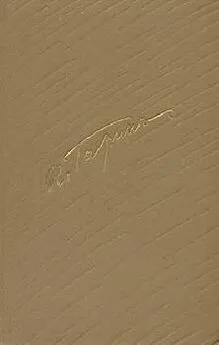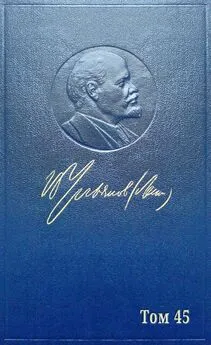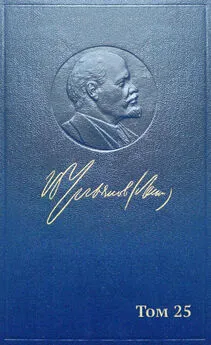Николай Жевахов - Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920
- Название:Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родник
- Год:1993
- Город:М.
- ISBN:5-86231-48-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Жевахов - Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920 краткое содержание
“Прежде всего я считаю нужным сказать, что я не "сочинял" своих "Воспоминаний", а писал лишь о том, что сохранилось в моей памяти и, следовательно, опускал все то, что в ней не сохранилось. Отсюда излишняя подробность с одной стороны, сжатость и краткость изложения – с другой. Но "искренность" я выдерживал до конца, не позволяя себе ни уклоняться от правды, ни допускать тенденциозного освещения фактов...”
Князь Н.Д. Жевахов
Воспоминания. Том 2. Март 1917 – Январь 1920 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нет, дело не в обер-прокурорах, боровшихся с рутиной и бывших почти единственными вдохновителями и проводниками в толщу жизни всякого рода церковных начинаний, любивших и оберегавших Церковь и пребывавших в теснейшем духовном общении с лучшими из иерархов, а в самом принципе преобладания (?) государственной власти в Христовой Церкви .
В чем же выражалось "преобладание" этого принципа в России?
Действительно ли церковная жизнь России тяготилась таким "преобладанием" и возможно ли вообще указывать на преобладание этого принципа в России, государстве, основанном на совершенно особых началах и осуществлявшем принципы боговластия, а не народовластия?
Казалось бы, что одно указание на природу русского Самодержавия, в отличие от парламентного строя, было бы достаточным для того, чтобы усматривать в самом понятии "государственной власти" различное содержание в зависимости от существа и характера того или иного государственного строя. Содержание "государственной" власти в России было иным, чем на Западе, и по отношению к России такое "преобладание" выражалось не в подавлении церковности государственностью, а в преимущественных заботах и попечениях государства о материальном благоденствии и духовном процветании Церкви.
И лучшим свидетельством этого положения являются именно церковные реформы Петра I.
Чем были вызваны эти реформы, какая идея лежала в основании синодальной системы церковного управления?
Только ли каприз самовластного восточного деспота, или сведение личных счетов с неугодившим ему Патриархом, или замаскированное безверие, посягнувшее на свободу Церкви и отдавшее ее под опеку государства?
Нет, строились Петром Великим церковные реформы на гораздо белее глубоком основании. В царствование Царя Алексея Михайловича линии церковной и государственной жизни сливались, жизнь являла собою трогательное единение между Церковью и государством, церковность объединялась с государственностью, проникая в толщу государственной жизни и христианизируя ее. Но такое явление было случайным и обусловливалось только личностью Царя и Патриарха .
Такое основание было шатким. Благоденствие Церкви и государства не может покоиться только на личности Царя и Патриарха, и вот почему Император Петр Великий провозгласил и провел в жизнь принцип не только морального, но и юридического единения между ними. По мысли Императора, интересы Церкви и государства не только могли, но и должны были слиться друг с другом, ибо у государства феократического должны были быть общие с Церковью программы, общие задачи и цели. Здесь было не посягательство на права Церкви, а убеждение, что только христианская государственная власть в состоянии сохранить и обеспечить эти права.
И совершенно прав г. Дивеев в своей статье "Блюдите Церковь Христову" (Еженедельник, 16/29 июля 1923 г., № 99), когда, останавливаясь на церковных реформах Петра и подчеркивая Его мысль о неразделимости в христианском государстве церковных и государственных задач и необходимости иметь единый церковно-государственный план, говорит:
"В этом своем убеждении Петр был вместе со Вселенскими Соборами, вместе со всей традицией Византии. Если православный Император Византийский председательствовал на Вселенском Соборе, утверждал его постановления, даже самый Символ Веры, назначал и удалял Патриархов, имел вход в Царские врата, если Византийский Патриарх для церковного богослужения облачался в одежды Императоров и принимал действенное и непременное участие в делах государственных, то как можно утверждать, что Богопомазанный Император Всероссийский не имеет права заниматься делами Церкви?
Лютеранствующая и англиканствующая школа наших современных церковников затмила великий смысл Богопомазания православных царей. Недавно на одном из религиозных собраний пришлось услышать из уст православного иерарха, что Помазание на царство есть лишь пережиток библейского обряда и что Богопомазание не имеет больше значения, чем елеопомазание, совершаемое над верующими в известные праздники. Не удивительно, что следующие по стопам подобных архипастырей церковники с настойчивостью твердят о свободной от монархии Церкви и восхваляют блага церковной "аполитичности"...
Но и независимо от исторических обоснований Петр Великий руководствовался и чисто практическими соображениями, желая дать Церкви ту государственную опору, без которой она, как земное учреждение, разумеется, существовать не могла. В этом заключается идея церковных реформ Петра Великого, в этом был и залог процветания Церкви в России. И что бы ни говорилось и ни писалось по поводу означенных реформ, как бы тяжки ни были обвинения Петра в произволе и насилии, но факты без слов опровергают их. Синодальный период церковной жизни был эпохою наибольшего расцвета Церкви в России.
Об этом безмолвно свидетельствуют прежде всего причтенные к лику святых величайшие подвижники Церкви этого периода: Митрофаний Воронежский и Иннокентий Иркутский, Иоасаф Белгородский и Димитрий Ростовский, Феодосий Углицкий и Питирим Тамбовский, Серафим Саровский и ожидающие прославления Филарет и Макарий Московские, Филарет Киевский и незабвенный молитвенник Земли Русской Иоанн Кронштадтский, не говоря уже о бесчисленном сонме праведников, коими так богаты были наши монастыри и вся наша родная Русь, имевшая даже в своих деревнях и селах священников, подобных Алексею Колоколову, Алексею Гневушеву, коему я отвел несколько страниц в своем первом томе "Воспоминаний", и мн. др.
Однако ни от митрополита Макария и Иоанна Кронштадтского, ни от великих праведников, старцев Саровских, Оптинских, Валаамских и пр. и пр., я не слышал нареканий на синодальную систему, а, наоборот, слышал, что благоденствие Церкви связано с государственным правопорядком, что нужно беречь и любить Государя, охранять прерогативы Царской власти, ибо воля Царя выражает на земле волю Божию.
Не порабощение Церкви государством, не лишение свободы и гнет, не один только контроль государства над Церковью лежали в основе реформ Петра, а защита и охрана Церкви, составлявшая прямую обязанность Монарха как Божьего Помазанника и Ктитора Церкви.
При этих условиях принцип преобладания государственной власти в Христовой Церкви, абсолютно недопустимый в государствах парламентарных, где он стал бы выливаться неизбежно в формах, враждебных Церкви, приобретал в России и другой характер и другие выражения и не только оправдывался историческими причинами, но и являлся необходимым – как условие, обеспечивающее благо Церкви.
ГЛАВА 51. Отношение Русских Царей к Церкви
Интервал:
Закладка: