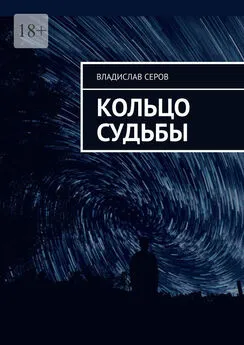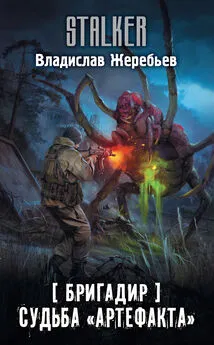Владислав Маевский - Афон и его судьба
- Название:Афон и его судьба
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Индрик»4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-066-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Маевский - Афон и его судьба краткое содержание
Книга русского писателя-эмигранта Владислава (Владимира) Альбиновича Маевского (1893–1975) «Афон и его судьба» никогда не издавалась в России. Являясь одной из последних книг, вышедших при жизни автора, она подводит своеобразный итог его многолетних усилий по сохранению Русского Афона в условиях фактической административной блокады Святой Горы правительством Греции в 50–60-е гг. XX в. В книгу, по замыслу автора, вошел публиковавшийся ранее цикл «Афонские рассказы», которые вместе с очерком Бориса Зайцева составляют золотой фонд русской литературы об Афоне XX в.
Афон и его судьба - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:

В Свято-Ильинском скиту
Но полного процветания скит достиг лишь при старце Паисии втором. Этот трудолюбивый настоятель перестроил весь скит и к 1850 году закончил большой план своих работ. Число иноков снова стало умножаться, и вскоре уже опять недоставало помещений для вновь поступающих. И потому отец Паисий воздвиг еще один корпус, в котором устроил и две церкви. Жертвенные благодетели из России помогли скиту устроить величественный собор и в то же время удовлетворить все потребности обители. И все это довело ее до того цветущего состояния, которое она обрела накануне Первой мировой войны, когда представляла собой огромную и благолепную общежительную обитель. В это время скит имел уже свои обширные подворья в Одессе и Константинополе.
Предание гласит, что знаменитый подвижник и основатель Свято-Ильинского скита великий старец Паисий был человеком, сеявшим вокруг себя семена христианской кротости и необыкновенной доброты. Его простодушная ласковость согревала каждого, кто имел радость с ним встретиться. По всей вероятности, от него и перешла по традиции та же ласковость и теплота ко всем его последователям, населявшим Ильинский скит.
Этот скит расположен на северо-восточном склоне Афонской Горы, на холме, весьма красивом и живописном, но пустынном. С трех сторон он окружен высокими горными склонами, покрытыми вечной зеленью лесов и кустарников. И только с восточной стороны он совершенно открыт, представляя великолепный вид на море с лежащими вдали на голубой глади вод темными пятнами островов. Это – Тассо, Имбро и Самофраки, а также обширный остров Лемнос, наполовину скрытый за голубым туманом. За тем же туманом, но еще более густым и уже молочно-белым, едва виднеется на северо-востоке снежная заоблачная цепь гор Македонии. А там – высоко в лесной чаще, что к северо-востоку от Ильинского скита, – едва виднеется небольшой болгарский скит Ксилургу. В древние времена и он принадлежал русским монахам. Значительно ниже, на расстоянии получаса хода от скита Св. Илии, красуется древний греческий монастырь Пандократор, обнесенный высокой стеной, с еще более высокими башнями. Издали это не монастырь в современном представлении, а скорее полный средневекового величия замок.
От Ильинского скита до Кареи два часа ходьбы, а до моря – полчаса. Скит удален от дороги, вблизи его нет жилья. И потому здесь постоянная тишина и безмолвие, много способствующие инокам проводить жизнь сосредоточенную и нерассеянную. В этом тихом скиту я провел незабвенных две недели, занимаясь в библиотеке и душой отдыхая в беседах со своими новыми друзьями. Но самым сильным воспоминанием является радостная память о церковных службах в этой обители. Помимо ежедневных служб я имел счастье встретить здесь и один из особо чтимых двунадесятых праздников, когда все службы отличаются особой торжественностью. Но всенощное бдение здесь, на Афоне, все же выделяется своей красотой, славой и своеобразием.
Накануне праздника часов в пять ударили в било. И этот стук возобновляли три раза в течение получаса. Потом ударили в большой колокол, а за благовестом последовал и трезвон. Приятно удивило меня в храме и привлекло внимание, когда прекратилось чтение псалма и часть стихов его стали петь попеременно оба хора. Пение это невольно вливало религиозную бодрость. А когда совсем стемнело, величественный собор начал освещаться в разных местах лампадами и свечами; после одиннадцати часов началось бдение, весьма утомительное для непривычного паломника. Утомительное, но в то же время следует признать, что молитвенное чувство не только не ослаблялось в течение продолжительного бдения, а даже, наоборот – все возрастало.
Плавные, точно воздушные экклесиархи, полупевучее чтение почтенными старцами, таинственный полумрак храма и мерцающие пахучие свечи из чистого воска – все это создавало особое и проникновенное настроение. А между важнейшими моментами бдения те же неслышные экклесиархи погружали собор в еще больший мрак. И тогда мерцали лишь лампочки у канонархов и лампады у чудотворной иконы. Впечатление глубокое и неизгладимое в душе моей оставило чудное пение. Кто имел счастье слышать это пение и видеть стройность, чинность и благоговейность афонского богослужения, тот не может не восторгаться им. Я и теперь как бы еще слышу эти чистые высокие голоса – свободные и естественные, неспешное, благоговейное внимание хора к словам канонарха, это ловимое сердцем и износимое из сердца, как хвала или как молитва, повторение их… Пение и чтение отличалось точностью, правильностью и выразительностью исключительной.
Утреня окончилась только после четырех часов утра. Перед началом праздничной литургии был один только трезвон. Огромный собор сиял светом, а богослужение наполняло душу высокой радостью, принятию которой, конечно, немало содействовало минувшее бдение, отстранившее от мыслей и сердца ненужные впечатления. Нарядные облачения, чинное и благолепное хождение, торжественные выходы духовенства – это все усиливало незабываемое впечатление.
С чувством покоя в душе покидал я этот тихий скит, сердечно провожаемый отцом игуменом и свободными от послушания иноками, среди которых особенной любовью меня окружали верные друзья и земляки-монахи отец Рафаил и отец Петр. На прощание все мы снова говорили о родине нашей и о великих испытаниях, выпавших на ее долю. Говорили о великом зле, которое так победоносно разгуливало по земным просторам, взрастившим и вскормившим большинство братьев скита. Вспоминали свою прекрасную родину старцы афонские с любовью, по-своему, по-монашески: без ненависти и злобы против кого-либо.
– Нехай все буде так. Тильки прийде цей велыкий день, прийде Воскресение! – спокойно сказал один из моих провожатых, старый инок из моего же уезда.
И видно было, что в пришествие этого великого дня непоколебимо твердо верил старый инок из уроженцев Полтавской губернии и все его братья во главе с отцом игуменом.
Паломничество по святой горе
Нас было тогда трое русских и один серб. Вышли мы из нашего славного монастыря в продолжительное паломничество по афонским обителям. И прежде всего начали восходить на крутизны узкой, необработанной тропинкой по направлению к северо-западу через Ксеноф, Зограф; перебрались через хребет горы на северную оконечность ее в Хиландарскую сербскую Лавру. А оттуда косогором северо-восточного кряжа через греческий Ватопед и Ксилургу – в Карею. Спустившись к Иверу и Климентовой пристани, мы прошли этой стороной среди обрывистых диких скал к вершине. Посещали келлии и каливы; к сожалению, не долго в них задерживались, хотя было много интересного, дотоле невиданного и неслыханного.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
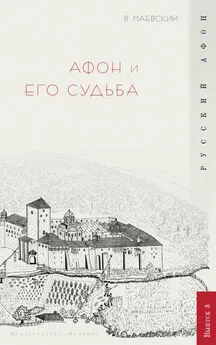

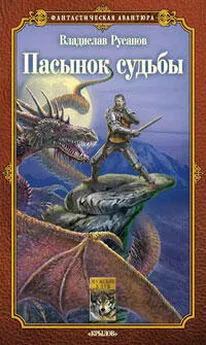
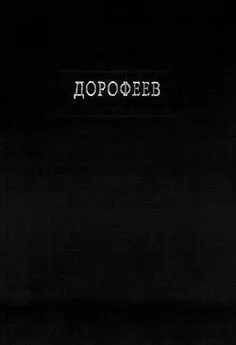
![Владислав Жеребьёв - Бригадир. Судьба «Артефакта» [litres]](/books/1071125/vladislav-zherebev-brigadir-sudba-artefakta-l.webp)