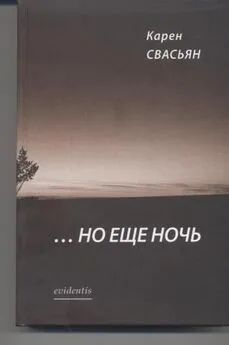Карен Свасьян - …Но еще ночь
- Название:…Но еще ночь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Evidentis
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карен Свасьян - …Но еще ночь краткое содержание
Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..
…Но еще ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
10.
Судьба и случай позаботились, впрочем, о том, чтобы и это не было еще концом. Последнее слово в деле тамплиеров оставалось за великим магистром ордена. 18 марта 1314 года Жак де Моле и прецептор Нормандии Годфруа де Шарне были казнены в Париже. Их, вместе с двумя другими узниками, визитатором Франции Гуго де Пейро и прецептором Пуату и Аквитании Годфруа де Гонвилем, привезли на суд, чтобы прилюдно огласить им приговор о пожизненном заключении. Трибунал из четырех кардиналов под председательством Филиппа де Мариньи проходил на паперти перед Собором Парижской Богоматери при огромном скоплении народа. Приходится гадать, какие именно мотивы побудили Филиппа устроить этот театр, но то, что ему совершенно отказало чувство мистической (или, в иной оптике, эстетической ) реальности, не подлежит сомнению. В своем самомнении он просто не сподобился учесть элементарное правило жанра, что там, где со сцены сходят два героических столетия, сцену трясет как в лихорадке. Великий магистр взял слово и твердым голосом засвидетельствовал ложность обвинений и невиновность ордена. Вслед за ним то же повторил приор Нормандии. Оба других товарища предпочли хранить молчание и сгинули навсегда в подземельях. Что до клятвоотступников, то, пока кардиналы решали их участь, Филипп созвал совет и велел казнить обоих незамедлительно, без суда и приговора, так что уже вечером того же дня на Камышовом острове Сены между королевским садом и церковью августинских монахов (нынешней набережной Больших августинцев) был сложен костер, один на двоих. Магистр попросил повернуть его лицом к Собору Богоматери и, уже объятый пламенем, громко призвал папу и короля на Божий суд. То, что Климент V умер спустя месяц (предположительно от рака кишечника), а 46-летний Филипп через восемь месяцев то ли от инсульта, то ли упав с лошади на охоте (по Данте, от удара кабана, di colpo di cotenna ), положило начало красивой и повторяющейся в веках легенды о проклятии тамплиеров. Похоже, великий магистр вызвал на суд Божий не только своих непосредственных палачей, но и саму королевскую власть; во всяком случае, слухи и фантазии здесь настолько сопряжены с фактами, что переход от одного к другому как бы напрашивается собой, стирая грань, отделяющую «поэзию» от «правды» : факт, к примеру, что Людовика XVI везли на казнь именно из башни Тампля; слух, что какой-то человек взобрался на эшафот после его казни и громко крикнул: «Жак де Моле, наконец ты отмщен!» Интереснее всего, что слухи, даже если их нельзя подтвердить прямым образом, не лишены почвы и косвенно подтверждаются другими фактами. Сценка с незнакомцем на эшафоте — слишком груба, именно театрально груба, чтобы заслуживать доверие историков. Но при чем доверие историков! Наверное, историкам следовало бы время от времени напоминать, что история гораздо сложнее и непредсказуемее их собственных представлений о ней. В конце концов не история нуждается в их доверии, а они в её понимании, и считать историей только её документально заверенную часть, всё равно что считать морем то, что плещется на его поверхности. С другой стороны, чем же названная сценка неправдоподобнее сотен других, достоверных, потому что документированных! Разве не вписывается она вся целиком в тот парижский 1793 год, который (документально ли, анекдотически ли) так вдохновенно и почти уже на грани неразличимости подражал будущему роману Гюго! Но вот, впрочем, еще один, вполне достоверный, факт, через который проклятие великого магистра транспарирует ярче и исчерпывающе, чем через все оккультные толки и слухи. Я цитирую по гонкуровской «Истории французского общества в период революции»: «21 января 1793 года в четверть одиннадцатого утра Людовик Бурбон, XVI именем, родившийся в Версале 23 августа 1754 года, названный дофином 20 декабря 1765 года, король Франции и Наварры 10 мая 1774 года, помазанный и коронованный в Реймсе 11 июня 1776 года, был гильотинирован на Площади Революции. — Вскоре после этого некий человек по имени Ромо — в брошюре, которую сегодня почти невозможно разыскать, — предложил „всем гражданам отмечать в семейном кругу день памяти 21 января, поедая в этот день свиную голову или свиное ухо “» [80] Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de la société française pendant la révolution, Paris, 1879, p. 288.
.
11.
Вопрос, остающийся непроясненным и по сей день: были ли преступления, инкриминируемые тамплиерам, выдумкой или они всё-таки соответствовали действительности? На этот вопрос нет прямого и простого ответа: ни просто «да» , ни просто «нет» ; между «да» и «нет» растянута целая палетта половинчатостей: от частичных, дробимых «да» до частичных, дробимых «нет» . Схема «пытки-признания» очевидна, но она объясняет не всё; большинство признаний носят выборочный характер, что не совсем вяжется со способом их получения, потому что признания, полученные под пытками, как правило, не селективны, а тотальны: тут можно либо, упершись головой в безумие, всё отрицать (в промежуках между приведением в сознание и очередной потерей его), либо уже без удержу сознаваться сколько угодно и в чем угодно . Что при более пристальном чтении протоколов допросов, изданных в свое время Мишле в знаменитом двухтомнике «Процесс тамплиеров» и переизданных в наше время Жаном Фавье [81] Jules Michelet, Le Procès des Templiers, tt. 1–2, Paris, 1987.
, обращает на себя внимание, так это, среди прочего, странный, на грани невменяемого тон, которым делаются признания; впечатление таково, что они говорят правду , но не всю, и делают это, как бы не совсем соображая, о чем речь. Как же, иначе, понять, что на сотнях протокольных страниц сотни раз повторяется одно и то же: «да, я кощунствовал, но делал это устами, а не сердцем» , без того чтобы судьи, да и сами признающиеся задали вопрос: а зачем? Зачем вообще было принуждать себя и других к кощунству, зная, что оно фиктивное, притворное? Зачем стремиться быть принятым в орден, где принуждают к такому нелепому кощунству? Факт, что в ритуалах принятия в орден действительно присутствовали элементы, на которых позже строилось обвинение. Они в самом деле отрекались от Христа, хотя и в довольно странной форме: «От Тебя, кто Бог, отрекаюсь», и даже (некоторые, впрочем, решительно отказывались делать это) плевали на крест, хотя сразу после этого с благоговением целовали его. Очевидно, это объясняется перенятием определенных оккультных практик, которыми кишмя кишел Восток и которые после крестовых походов стали нередки и на Западе. В данном случае речь могла бы идти о символически инсценируемой ступени, известной в мистериях посвящения под техническим наименованием «встреча со стражем порога» ; посвящаемый переживал здесь в ужасных, объективированных образах собственное подсознание, как темную негативную изнанку светлых сознательных представлений. Рудольф Штейнер в дорнахской лекции от 25 сентября 1916 года необыкновенно остро вскрыл загадку самооговоров тамплиеров указанием на факт их христианского посвящения [82] Rudolf Steiner, Innere Entwicklungsimpulse der Menschheit. Goethe und die Krisis des neunzehnten Jahrhunderts, Dornach 1984, S. 122–128.
. Особенностью этого посвящения была неизбежность встречи со злом, переживания зла в себе . Ревностный служитель добра и подвижник обнаруживал вдруг в себе никогда прежде даже не предполагаемую восприимчивость к дьявольскому и сатанинскому. Он начинал жить как бы в раздвоенном сознании, нижний — подсознательный — полюс которого активировался тем сильнее, чем сильнее утверждал себя верхний, светлый, полюс. Посвящаемый ощущал вдруг в себе с трудом удержимую тягу к кощунству, искушениям и соблазнам. Парадоксальность переживания заключалась в том, что без этой тяги он оставался бы ущербным потенциально (плоское дневное сознание без ночной изнанки), а с ней рисковал стать таковым на деле. Нужно было научиться осознавать в себе способность , склонность ко злу и не делать зла. Как раз на этом зыбком, обваливающемся, как бы лунатически повисшем над собой психическом состоянии и построил Филипп технику добывания признаний, причем так, чтобы они не только выглядели, но и были — для непосвященных — правдой . Признания достигались не пытками; пытки просто отключали сознание, после чего точными, точечными вопросами реактивировалось подсознание, в котором жили богохульство и порок. Вопросы ставились по уже заранее предрешенным и нужным ответам, которые извлекались затем из подсознательного, занявшего место отключенного пытками сознания. Скажем, подследственному задавался вопрос: отрицал ли он просфору, или: избегал ли он произносить литургические формулы, или: плевал ли он на крест, а он сознавался в этом, как в правде , но такой, которая, будучи правдой, вместе была и неправдой . (Некоторые вопросы, типа: предавался ли он содомии, решительно отклонялись, потому что в этом пункте, надо полагать, ваккум сознания просто ничем не заполнялся.) Надо представить себе художника , у которого конфискуют черновики, отдельные наброски, зарисовки, сырье и выдают затем это «парки бабье лепетанье» за само произведение. Или еще: надо представить себе человека, которого фотографируют в момент, когда ему защемило палец дверью, и вклеивают потом эту фотографию в удостоверение личности, как удостоверяющую личность. Нет сомнения, что тут работали профессионалы, и весь трюк сводился, по существу, к перевертыванию потенциалиса в индикатив, в котором данные сознания погашались с помощью пыток, а на их место вдвигались сослагательности подсознания, тем более чудовищные, что сфотографированные в момент посвятительного расширения сознания в ад. Когда позже они приходили в себя и задним числом пытались объяснить случившееся, не всем удавалось осознать уровень и качество порчи, а тем, которым удавалось, приходилось либо смиряться с собственной участью, либо отрекаться от своих показаний и впадать в рецидив (relapsus), то есть выбирать между жалкой милостыней пожизненного заключения в жизнь и смертью на костре.
Интервал:
Закладка: