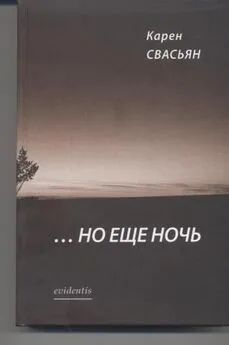Карен Свасьян - …Но еще ночь
- Название:…Но еще ночь
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Evidentis
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карен Свасьян - …Но еще ночь краткое содержание
Новая книга Карена Свасьяна "... но еще ночь" является своеобразным продолжением книги 'Растождествления'.. Читатель напрасно стал бы искать единство содержания в текстах, написанных в разное время по разным поводам и в разных жанрах. Если здесь и есть единство, то не иначе, как с оглядкой на автора. Точнее, на то состояние души и ума, из которого возникали эти фрагменты. Наверное, можно было бы говорить о бессоннице, только не той давящей, которая вводит в ночь и ведет по ночи, а той другой, ломкой и неверной, от прикосновений которой ночь начинает белеть и бессмертный зов которой довелось услышать и мне в этой книге: "Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь"..
…Но еще ночь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
10.
Еще раз: если «философия никогда не выражает общезначимых истин, но описывает внутренний опыт философа, посредством которого последний толкует явления», то это, вне всякого сомнения, значимо не только для философа, но и для историка; историк, в антропософском смысле, не стушевывается сам в поисках «утраченного времени» , а описывает прошедшее на языке собственного опыта, чтобы, расшифровывая его, выправлять свое настоящее. Необычность этого правила в том, что оно действует только как исключение и, значит, в исключительных случаях; перенесенное в сферу публичности и общеобязательности, оно мгновенно теряет смысл. Воспринимать его следует, поэтому, только в контексте другой максимы Штейнера: «Истинное есть всегда индивидуально-истинное значительных личностей» [150] Из примечания к «Sprüche in Prosa» Гёте: Goethes Naturw. Schriften, a. a. O., Bd. IV, 2. Abt., S. 400.
, и если знать при этом, что для Белого оба тезиса были как бы камертоном, по которому настраивалась его антропософия (убедиться в этом можно, обратив внимание на то, какое место занимают цитированные места в книге о Штейнере и Гёте), то есть все основания считать «Историю становления самосознающей души» своего рода паралипоменоном к «Началу века» и «Между двух революций». Более точным было бы сравнение с — едва ли не параллельно пишущимися в стол — личными заметками под интригующим заглавием «Материал к биографии (интимный), предназначенный для изучения только после смерти автора» . Оба прижизненно не опубликованных текста вполне могут быть осмыслены как две параллельные и по сути идентичные топики Я, одна из которых реализована средствами ощущающей души, а другая души самосознающей: в полном соответствии с упомянутыми выше двумя биографиями. Теперь, после того как первый (интимный) материал уже вышел в свет, самое время ожидать появления и второго [151] Пиратская версия текста, опубликованная в 1999 году в московском издательстве «Канон+» под заглавием «Душа самосознающая» (сост. Э. И. Чистякова), невменяема во всех смыслах. Что же сказать об академическом издательстве, сотрудники которого не способны отличать кириллицу от латиницы и печатают один раз (с. 66) Jucuc (наверное, только дешифровальщик догадается, что это написанный латиницей Иисус), а другой раз (с. 84) Jicyce, — и так едва ли не на каждой второй странице! В ответ на мое письмо, с выборочным перечнем безобразий, директор издательства по имени Божко заметил, что «ошибки всегда были и будут» и что «таковы реалии жизни». «Только печатать мы будем её всё равно в том варианте, в котором мы её уже напечатали и собираемся вскоре вновь переиздать. И будем это делать до тех пор, пока у этой книги будут читатели». Конец письма — в полном соответствии с уровнем издательской продукции — уходил в обсценную лексику. Российская шпана расписалась и здесь, показав, что метастазы ельцинского десятилетия смертельно въелись не только в политику, хозяйство, быт, но и — страшно сказать! — в дух.
. Важно не то, сколькие прочтут «Историю становления самосознающей души» на указанный лад: не в привычно академическом (пусть даже со скидками на ненаучность) смысле, а как свидетельство души, или рассказ о жизни, проживаемой — параллельно с другой, «кучинской» , жизнью — в мире истории и — как история. Главное, что, повидимому, только при условии такого прочтения, она не окажется очередным — посмертным — курьезом чудака: текстом, который неантропософы не станут читать, потому что он написан антропософом, а антропософы — потому что он написан… «вахтером» . Совсем как в случае книги «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности», которую сам Штейнер (он был знаком с ней в устном изложении Белого и по устному же переводу отдельных глав) в берлинской лекции от 19 июня 1917 года назвал «очень необычной русской книгой»: «Я убежден в том, что среди определенного круга людей книга эта найдет многих читателей. Но если бы её перевели на немецкий или другие европейские языки, то люди сочли бы её смертельно скучной, потому что им недостает органа для ювелирно выгравированных понятий, для чудесной филигранной отделки понятий, которая в этой книге бросается в глаза» [152] R. Steiner, Menschliche und menschheitliche Entwicklungswahrheiten, Dornach, 1982, S. 59f. (GA 176).
. И если необычность (Штейнер говорит также: «нечто абсолютно новое») названной книги заключалась в слиянии интеллектуальности и мистики («интеллектуальность, которая одновременно есть мистика, и мистика, которая в то же время есть интеллектуальность»), то необычность «Истории становления …», надо полагать, лежит как раз в её подчеркнутой, даже вызывающей автобиографичности. Похоже, автору меньше всего было дела до объяснения исторических событий; он просто пользовался ими, чтобы считывать с них собственную жизнь, домысливаясь до тех её глубин, за которыми она уже не забавляла бы (или огорчала) окружающих, а, пласт за пластом отбрасывая ненужное и наносное, обнаруживала себя как первофеномен . Нужно просто достаточно знать тексты, в которых автор прямо говорит о себе, чтобы, вчитываясь в этот, находить в нем едва ли не постраничные закодированные параллели к прочим.
11.
Если попытаться сжато охарактеризовать «Историю становления самосознающей души», держась её содержательного стержня, то можно будет говорить об истории Европы как истории души в её поступательном врождении (вмирании) в дух: от души ощущающей, с доминирующим в ней родовым началом, через рассудочную душу, знаменующую отрыв от рода в личности , до души сознательной (самосознающей, в транскрипции Белого), в которой личность, а точнее, множество личностей (личинок) в одном и том же человеке заново организуются индивидуумом в род, но уже не биологический и общий для всех, а представленный в каждом отдельном случае единично (по формуле Гёте: «Что такое общее? Единичный случай. Что такое единичное? Миллионы случаев» [153] Goethes Naturw. Schriften, hrsg. v. Rudolf Steiner, Stuttgart o. J., Bd. IV, 2. Abt., S. 368. Ср. у Штейнера в «Теософии»: «Как духовный человек, каждый есть сам по себе свой собственный род» (R. Steiner, Theosophie, S. 47)
). В восприятии этой монументальной истории души и находит автор «Истории становления…» собственный «оригинал» , на этот раз не замуровывая его в рамки лично прожитой жизни, а раздвигая до индивидуально прожитых многих (своих и не-своих) жизней, топика которых уже не прикреплена к Москве, Палермо, Дорнаху или тому же Кучино, а смещается в куда угодно, во всюдность культурно-исторических пространств, чтобы «русский писатель» Андрей Белый, узнавая себя (свое) в других: в rhinoceros indomitus Абеляре, в каталанском фантасте от логики Раймонде Луллии, в Фридрихе II Гогенштауфене, Микеланджело, Галилее, Шуберте, Шумане, Ницше, не только оценивал по ним высоту и опасность своих взлетов, но и корректировал собственные взрывы и срывы, вытягиваясь из «студентика и скомороха» в «выпрямителя сознанья еще не рожденных эпох» [154] Из стихов Мандельштама «На смерть Андрея Белого».
. Можно наугад цитировать текст страницами, сопровождая их параллелями «интимного» материала. Кого же, если не себя, имеет в виду писатель Белый, когда, например, характеризует художников Ренессанса! [155] Глава «Возрождение».
«Великие осуществления Леонардо и Микельанджело — жалкие осколки поставленных ими, прямо таки невероятных заданий; сумма творений Леонардо по сравнению с лабораторией его исканий, — эскизы; «Пиэта» , «Ночь» , «Утро» , «День» , «Вечер» , и прочие скульптурные шедевры Микельанджело, — ничто по отношению к порывам, заставлявшим его бросаться на скалы, чтобы изваять — ландшафты». И дальше [156] Глава «Природа и явление в 16 веке».
: «Величайшие достижения свои переживают они как срыв в еще больших намерениях; и одиночеством в сгущаемой тьме жизненного ландшафта настояны их последние дни». Или еще: уникальный самоанализ нескольких (антропософских) лет жизни в гигантски увеличенной проекции последних пяти веков европейской истории [157] Глава «Душа самосознающая».
: «[…] в младенческой радости, в первом предвестьи, что „дух“ имманентен „душе“ , пережитие это своей новизной потрясает, пьянит; все рельефы — колеблются; почва — трясется (при прослушивании кристианийского цикла лекций «Пятое евангелие» в октябре 1913 и лейпцигского «Христос и духовный мир» в декабре того же года, — К. С.) ; и прежде чем твердо пойти в измененном и зыбком рельефе, естественно падаем мы (в дорнахский быт в проекциях стриндберговского «Inferno», — К. С.) ; лишь в падениях учимся новой походке (праксис концентрации и медитации, — К. С.) ; падение первое первого мига рождения Вечности в миге — иллюзия, вписывающая в сознание личное — самосознание , которое в сущности — уже сверх-сознанье (мир духа); отсюда же следствие: личность, желая вкусить Вечность в миге, тот миг превращает из средства познания в цель наслаждения; люциферизм развивается тут, вырывая миг времени из цепи мигов и гипертрофируя миг (тридцатитрехлетний «лысый бэби», «росший в грандиозную чудовищность сверх-Парсифаля», — К. С.) ; миг от этого рвется, как газовый шарик; и газ, улетучась мгновенно, бросает на землю лишь кляклые тряпочки, не ощущающие никакой уже Вечности, разве что — грязь земли (он назовет это позже путем от Парсифаля к пиву и фокстротам, — К. С.) ». — «Этот опыт узнания, горестного, неизбежного (себя, своего, — К. С.) , в крупном масштабе проводится на протяженьи пяти предыдущих столетий, где миг пережития личности, как божества (начиная с расширения сознания на могиле Ницше: «[…] я в пустоте говорю: „Ессе homo“. И я — „Ессе homo“. […] невероятное Солнце слетает в меня», — К. С.) , есть пятнадцатое столетиe (миг ренессанса), а миг изживания себя материальною грязью не изжит еще; ликвидация переживания этого есть наше время (он мог бы сказать: моя жизнь после 30 марта 1923 / 1925 года, — К. С.) ». — «Всё, что я говорю здесь, — история взлётов, восторгов и горьких падений 15-го, 16-го, 17го, 18-го и 19-го столетий, чтобы в начале 20-го века смогли мы сложить наши лозунги: чётко». — Нет сомнения, что из двух универсальных аберраций, обозначаемых в антропософской духовной науке как «люциферическая» и «ариманическая» [158] Они вкратце охарактеризованы и в «Истории становления …» (глава «Рождение новой души»).
, Белый больше всего был подвержен первой; в переводе на его историософский язык это означало чрезмерно гипертрофированную личность, с таким же упорством не желающую подчиниться превосходящему её индивидууму , с каким род в эпоху перехода из души ощущающей к душе рассудочной противился отторжению от себя превосходящей его личности . Люциферическая абберация самосознающей души — личность, раздувающаяся до индивидуума и воображающая себя (прежде чем лопнуть) таковым; страницы «Истории становления …», описывающие трагизм «фаланги новых душ» , людей Ренессанса, оттого и потрясают глубиной проникновения в суть свершившегося, что непонятно, кто и в ком здесь исповедуется: они в авторе или автор через них; к этому, по сути, и сводился конфликт Андрея Белого с «доктором Штейнером» , как с «лучшей частью» своей души: диссонанс кентаврических половинок, из которых верхняя, человеческая, перманентно упадала в небо, а нижняя, астральная, в неконтролируемость. Очень подозрительный господин, похожий то ли на вахтера, то ли на обиженного подростка, и при этом еще пишущий «хорошие» книги. «Таким же неуместным и непонятным ответом, сквозящим шутливостью и высказанным не без озорства, были слова доктора мне, на почти вскрик мой о том, что я так скверен: „НО ВЫ ЖЕ НАПИСАЛИ ХОРОШУЮ КНИГУ“. Сколько раз удивлялся неуместному, каламбурному ответу; и сколько раз в душе поднимался протест: „В духе ли духовного водителя отвечать с таким легкомыслием на вопросы моего сознания; какое отношение имеет хорошо или дурно написанная книга к КОНКРЕТНОЙ УТРАТЕ человеком ПУТИ“? Мне казалось, что я утратил мой путь; я уже вышел из возраста видеть смысл моего бытия в хорошо или дурно написанной книге. Слова доктора казались мне почти вызывающими, а странная смешливость тона казалась обидной» [159] А. Белый, Воспоминания о Штейнере, с. 65.
. Не удивительно, что и антропософия, при всем безостаточном приятии её, проживалась в нем не без провалов, причем проваливался он не только из нее (в «ряды окаянств» ), но и внутри нее самой [160] Очевидно, это имел в виду Штейнер, когда предостерегал его перед его возвращением в Россию в 1916 году. В передаче Аси Тургеневой: «Многие найдут через Вас путь к антропософии; следите, однако, за тем, чтобы никогда не употреблять в лекциях выражение: „так говорит антропософия“, вместо: „так понимаю я антропософию“, — потому что она больше, чем то, что может сообщить о ней какое-нибудь одно понимание». Assja Turgenieff, Erinnerungen an Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, Stuttgart 1973, S. 85.
; пассаж о Фоме Аквинском в разделе о схоластике оставляет тягостное впечатление, во-первых, аподиктичностью абсолютно голословных утверждений, и во-вторых, игрой непредсказуемых ассоциаций с переносом личных обид в сверхличное, а главное, компенсацией их на такой невменяемый лад. «Аристотель без естествознания, Платон без идеализма, Кант без критицизма, Юм без крови, — он становится вечным юрисконсультом церкви, остановившим в ней жизнь и подменившим в ней мысль разбором запутаннейших юридических казусов; две истины под формой одной, он — сама ложь западной церкви, вставшая великаном над веками её фиктивной жизни; я бы назвал его не doctor angelicus, а doctor diabolicus». Интереснее всего, что он не мог не знать, о ком идет речь [161] Штейнер, как перевоплощенный Фома.
, и это сведение личных счетов в топике истории лишний раз свидетельствует о том, что провалы сознания сопровождали его даже в теме самосознания. Мы адекватно воспримем приведенный отрывок, если станем читать его не в контексте раздела «Эпоха схоластики», а параллельно с поэмой 1922 года «Маленький балаган на маленькой планете „Земля“», — той самой, что «выкрикивается в берлинскую форточку без перерыва» («Проклятый, проклятый, проклятый тот диавол, который — в разъятой отчизне из тверди разбил наши жизни — в брызнь смерти, — который навеки меня отделил от тебя» и т. д.) [162] По графе «выкрикиваний в форточку» следует, по-видимому, отнести и образ «доктора Доннера» из романа «Москва», сходство которого с «лучшей частью души Андрея Белого» не без злорадства отметили в свое время некоторые критики, притом что само злорадство выглядело убедительнее, чем спешный авторский отвод сплетни: «… новая клевета возводится на меня; я-де написал пасквиль на Рудольфа Штейнера […]; клевете верят» (А. Белый, Почему я стал символистом и почему я не перестал им быть во всех фазах моего идейного и художественного развития, с. 115).
. Похоже, инженер Энглерт, он же «маг Юп» из «Паломничества в страну Востока» и «армянский звездочет» из «Последнего лета Клингзора» Гессе — фигура во многом схожего склада: с чертями и тикающими бомбами в голове [163] Он ушел-таки от Штейнера в католицизм.
, действительно понял своего русского друга, когда перечитывал Достоевского. Но, может, он лучше понял бы его, приведись ему читать «Историю становления …», в которой раздвоение предстает уже не в мутной психологической среде трактиров и чердаков, а в метаниях души между рождением в дух и обратными рецидивами вырождения в тело. Что здесь единственно решало, так это фактор личной воли , и если из всех характеристик сознательной души именно воле автором отводится центральное значение, то это лишний раз подчеркивает его полное служебно-академическое несоответствие. Историк академического толка находит волю у описываемых им исторических личностей и даже готов признать за ней решающее значение; вопрос о нем самом, о его личной воле и участии в истории показался бы ему шуткой, как если бы его историческая наука и сам он, как историк, свершались не в истории, а непонятно где. Нужно воспринять это однажды на фоне радикально противоположной установки «Истории становления…», согласно которой историк, пишущий историю, делает её не в меньшей мере (разумеется, не здесь-и-сейчас, а в альтернативных проекциях будущего), чем трейчкевские «Männer, die Geschichte machen» . Историк, в смысле антропософской духовной науки, выступает не в роли объективного наблюдателя и регистратора (на манер Тэна), ни даже шлегелевского пророка, обращенного вспять, а как прямой участник и соучастник происходящего [164] Ср. следующий отрывок из штутгартской лекции Штейнера от 30 июля 1920 года: «Суть не в том, чтобы опровергать материализм, а в том, чтобы предохранить человечество от тенденции материализма становиться всё более правильным, ибо он близок сегодня к тому, чтобы стать правильным, а не ложным. Все разговоры о ложном материализме бьют мимо цели; говорить следует о том, что материализм в сегодняшней культуре делается правильным, всё более правильным, с каждым днем всё более и более правильным. Мы можем уже с началом третьего тысячелетия стать свидетелями того, что человечество примет такой характер развития, при котором материализм окажется верным воззрением. Не о том идет речь, чтобы опровергать материализм, после того как ему осталась самая малость, чтобы стать правильным, а о том, чтобы сделать его неправильным; материализм — это не просто ложная теория, а то, что вот-вот станет фактом» (R. Steiner, Gegensätze in der Menschheits-Entwickelung, Dornach, 1996, S. 127. GA 197).
. Характерен в этом смысле пассаж, которым завершается глава «Самосознание и дух свободы»: «Так, — я благодатию духа, могущей открыться и мне, силой ясного мне интеллекта и зримого в нем Михаила, я, дух нерожденный, могущий родиться, и я, „Индивидуум“ , движущий личность Бориса Бугаева, — я утверждаю: — „По этому слову — всё будет!“ И я приношу благодарность: Духовные Силы моей слепоте дали луч: мне действительность — видима, как бы сквозь тусклые стекла; в моем интеллекте и в твердом решеньи мне верить и жить „по сему“ — я отказываюсь от иных всяких помощей в битве за правду духовную; вооруженье одно: всеоружие силы сознания; дух я — лишь в Духе; дух Духа во мне, имя новое в камне души моем белом надгробном — „свобода!“ И — камень отвалится: я — встану — в Дух!»
Интервал:
Закладка: