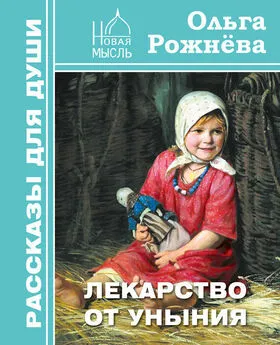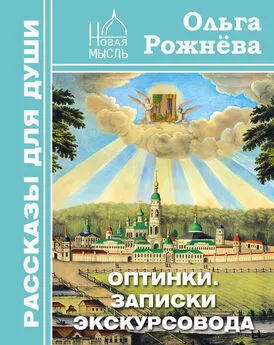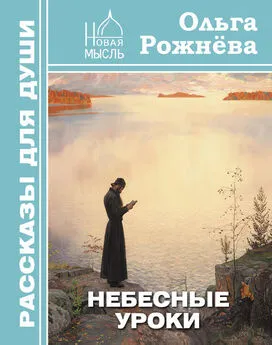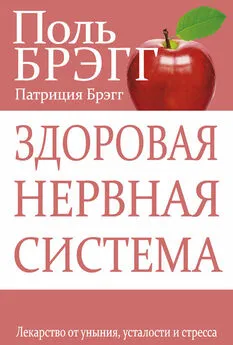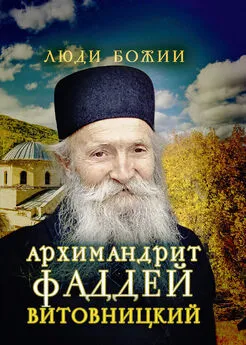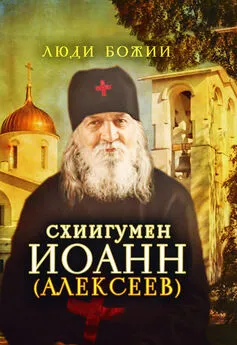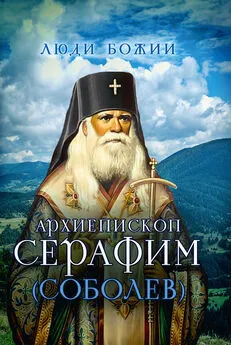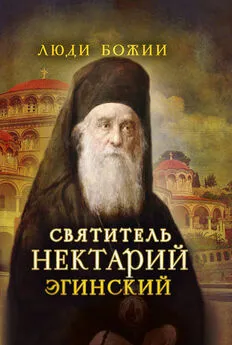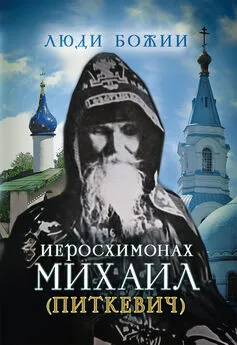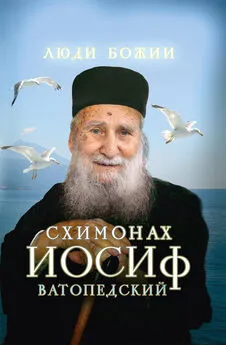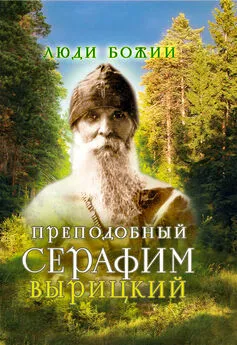Ольга Рожнёва - Лекарство от уныния
- Название:Лекарство от уныния
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Новая мысль»0f169688-e4d1-11e3-a844-0025905a069a
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-902716-35-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Рожнёва - Лекарство от уныния краткое содержание
В этой книге собраны подлинные истории реальных людей, чьи рассказы захватывают, вызывают сопереживание и волнуют душу больше любой выдумки, напоминают нам, что каждый день в нашей жизни – это дар Божий.
Прочитав книгу, вы узнаете:
– какое самое лучшее лекарство от уныния
– как искала детдомовская Ксюха свою маму и что из этого вышло
– как прожить жизнь набело
– кто ваш ближний
– как жить без таблеток
– какую силу имеет молитва священника
– почему верующая Клава препятствовала крещению тяжелобольного мужа
– почему инок Валериан стал лучшим другом старого угрюмого схимника отца Феодора
– зачем богатый бизнесмен Олег Владимирович искал старый сервант
– как Кеша собирался стать гражданином мира и что из этого вышло
– почему бомж расплачивался с водителем такси пятитысячной купюрой
– что такое флешбэк
и сделаете много других увлекательных и потрясающих открытий. Бог в помощь!
Ольга Рожнёва
Лекарство от уныния - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Церковь нашу закрыли и разрушили под предлогом того, что не было у прихожан храма денег на ремонт, на содержание священника. Но причина эта была надуманной, просто священника, его семью и храм обложили совершенно нереальными, непосильными налогами.
Мой отец всегда говорил правду. Был он тружеником и человеком бесстрашным. Он высказывался против закрытия храма, и его арестовали. Посадили в тюрьму по линии НКВД, обвинив в религиозной агитации и религиозной проповеди.
Теперь доход нашей семьи состоял только из моей зарплаты и маминых трудодней. За работу в колхозе давали не зарплату, а эти трудодни, так назывались палочки в записной книжке учётчика. На трудодни давали хлеб, причём не килограммы, а сотни граммов.
Я постоянно посылал маме деньги и взял к себе жить брата Мишу. Были ещё младшие: Аня и Витя. Сестрёнка Лиза поступила учиться в льнотехникум и получала стипендию. В общем, выживали потихоньку.
Мне, как учителю, дали бирку райсовета, по которой я получил право купить настоящую швейную машинку – редкость для села, и добротное пальто с каракулевым воротником. Эти вещи помогли нам выжить: мама увезла их на саночках в Удмуртию и там обменяла на муку.
Я решил выручать отца. Думал, чем можно ему помочь. Вспомнил, что в годы Гражданской войны его мобилизовали в Красную армию и он был «кочуром» у самого Блюхера. Взяв справку, подписанную Блюхером, я смело отправился в НКВД. Мой визит в это учреждение мог окончиться моим собственным арестом, но… Господь хранит младенцы.
Я потребовал пустить меня к начальнику РО НКВД Калягину. Не знаю, может, моя дерзость сыграла роль, может, материнские молитвы, но меня пустили к Калягину. На лицах охранников было написано удивление, ход их мыслей, видимо, был следующий: «Наверное, этот парень на самом деле имеет право просто так зайти к грозному начальнику, раз так смело этого требует».
Мне повезло: Калягин лично знал Блюхера. И справка про «кочура» сыграла роль палочки-выручалочки. Думаю, что года через четыре, в 1937-м, этот номер бы уже не прошёл и дело бы не закончилось так благополучно. Через сутки отец был дома. Обритый наголо, без бороды, похудевший, он был не похож на себя самого. И мы сначала не узнали отца, пока он не заговорил. А он смеялся: «Родные дети не признали! Значит, долго жить буду!»
Было и ещё одно испытание. Меня вызвали в облоно по необъявленной причине. Когда я пришёл в кабинет, то увидел там, кроме руководителей облоно, людей в форме сотрудников НКВД. Мне были заданы вопросы в довольно угрожающей форме: «Почему вы скрыли от нас, что ваш дядя является монахом? Как вы, имея такого родственника, можете быть допущены к подрастающему поколению? Почему вы преднамеренно солгали советской власти?»
Я растерялся. Ожидал чего угодно, но только не вопросов о дяде. Он действительно был монахом и жил в монастыре с 1914 по 1924 год, и в нашем селе все об этом знали. Но в 1924 году монастырь закрыли, всех насельников его разогнали, часть репрессировали. Поэтому дяде пришлось жить в миру, и он должен был работать, чтобы не умереть с голоду.
Обычно все монашествующие были очень трудолюбивыми. Это только богоборцы кричали, что монахи – лентяи и тунеядцы. Я хорошо знал, что это не так. Монахи были самыми ответственными людьми, работали отлично на любом послушании. Мой дядя устроился на гипсовый завод в Перми.
Он привык всякое дело ради Господа выполнять самым наилучшим образом, и на заводе, не пытаясь сделать какую-то карьеру, тем не менее быстро стал ударником. Рабочие в цехе его уважали и выбрали своим бригадиром.
Об этом я и сказал своим обвинителям. Мне заявили, что проверят информацию и в случае её неподтверждения последствия для меня будут самые печальные. Видимо, информация подтвердилась быстро, потому что больше меня по этому делу не привлекали, а наоборот, назначили с 10 августа 1934 года директором Полозовской семилетней школы. Так, в двадцать один год я стал директором школы.
Родители гордились мной. Моя милая мама плакала и повторяла сквозь слёзы: «Иванушка мой, сыночек, вот ты у меня какой вырос-то!» Но я её радости не разделял. Понимал, что это дело было очень ответственным, и переживал, что не справлюсь. Правда, вслух этого не говорил. Маме виду не показывал, делал вид, что я уверен в себе и хорошо знаю будущую работу. Не хотел её расстраивать.
В моём новом коллективе было двадцать человек. Почти все они были старше меня, и это добавляло трудностей. Трудность была и в том, что произошло слияние двух школ. По приказу министерства с этого учебного года школы колхозной молодёжи (ШКМ) объединяли с начальными школами, преобразовывая их в семилетние. Так что в один день я принял сразу две школы. Нетрудно было пересчитать парты, стулья, столы. Но больше никакого оборудования не было. Также наступала осень, а не было подвезено топливо ни школе, ни учителям. А директор должен заботиться не только об учебном процессе, но и о жизни всей школы и её коллектива.
В школе были две коровы, лошадь, огородик и небольшой посев овса. Это означало, что у детей и учителей будет по кружке молока в день и, возможно, какие-то овощи с огорода. Но коровам и лошади нужен был корм, огородом тоже нужно было заниматься. Нужно было решить проблему с топливом. Создать новый коллектив. Организовать учебный процесс. В общем, работы впереди было много.
Особенно трудными оказались первые дни. Коллектив встретил меня недоверчиво, учителям казалось, что я слишком молод для руководителя. Но постепенно они приняли меня, и уже через пару недель о моей молодости никто не вспоминал, относились с уважением. Может, помогло то, что я всегда был серьёзным. Полагаю, что особой моей заслуги в этом никакой и не было. Это была заслуга моих родителей, которым, с Божией помощью, удалось воспитать во всех своих детях трудолюбие, ответственность. У меня всегда были чёткие нравственные ориентиры. Думаю, они были основаны на глубокой вере в Бога, хотя никогда в нашей семье эта вера не выставлялась, а, наоборот, хранилась в глубине души.
Здесь, в этой школе, я встретил ту самую, единственную, которую я так долго ждал. Помню, как ещё пареньком лет шестнадцати говорил с отцом о любви. И папа сказал: «Сынок, не так важно, какой будет твоя избранница: тоненькая или кровь с молоком, высокая или маленькая. Главное – настроение. Понимаешь?» Я не совсем понимал. Как это настроение? А если у неё с утра одно настроение, а к обеду другое? «Ну как ты не понимаешь?!» – переживал отец: Это я, косноязычный, не могу тебе объяснить правильно, как чувствую. Неграмотный я потому что. Слов-то не могу найти! Ну вот, настроение… Вот посмотри на маму – посмотришь, и приятно, и на душе-то так хорошо!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: