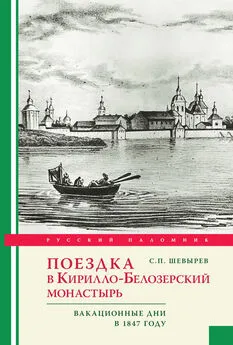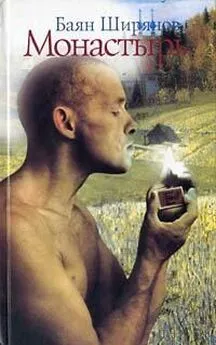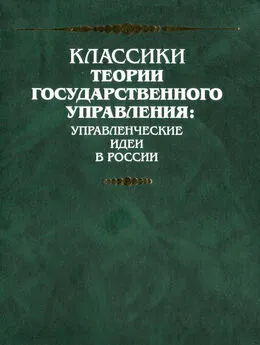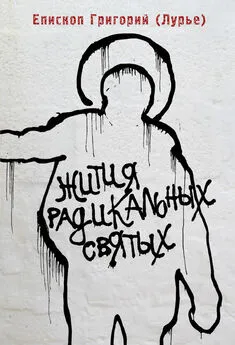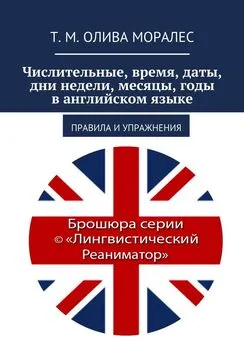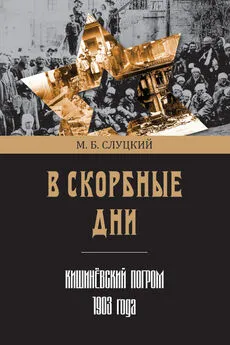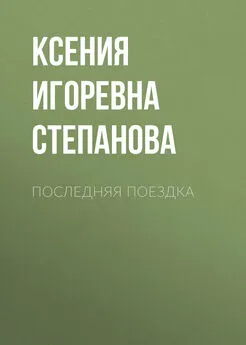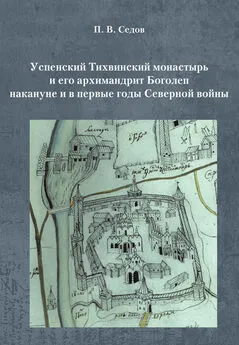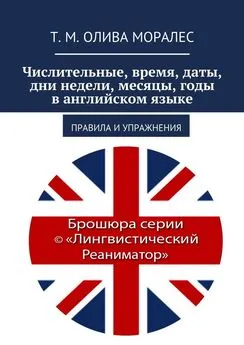Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году
- Название:Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Индрик»
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-075-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Степан Шевырев - Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году краткое содержание
Поездка в Кирилло-Белозерский монастырь. Вакационные дни профессора С. Шевырева в 1847 году - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Уезжая из Вифании, я взглянул на новый дом семинарии – это великолепные чертоги.
По той же дороге, которая ведет в Вифанию, влево, вы посетите пустынное уединение Гефсимании, вновь учрежденное преосвященнейшим архимандритом Лавры. Высокие и густые лесные сени окружают его. И в нем, как в Вифании, пускай сам хозяин и учредитель объяснит нам мысль учреждения своими же словами:
«Если памятнику свойственно возвращать мысль ко временам и предметам, которые ознаменованы памятником, то, прости мне, великая Лавра Сергиева: мысль моя с особенным желанием устремляется в древнюю пустыню Сергиеву. Чту и в красующихся ныне храмах твоих дела святых, обиталища святыни, свидетелей праотеческого и современнического благочестия, люблю чин твоих богослужений, и ныне с непосредственным благословением преподобного Сергия совершаемых; с уважением взираю на твои столпостены, не поколебавшиеся и тогда, когда поколебалась было Россия. Знаю, что и Лавра Сергиева, и пустыня Сергиева есть одна и та же и тем же богата сокровищем, то есть Божиею благодатью, которая обитала в преподобном Сергии, в его пустыне и еще обитает в нем и в его мощах, в его Лав ре, но при всем том желал бы я узреть пустыню, которая обрела и стяжала сокровище, наследованное потом Лаврой. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой Троицы? Вошел бы я в него на всенощное бдение, когда в нем с треском и дымом горящая лучина светит чтению и пению, но сердца молящихся горят тише и яснее свечи, и пламень их досягает до неба, и Ангелы их восходят и нисходят в пламени их жертвы духовной. Отворите мне дверь тесной келии, чтобы я мог воздохнуть его воздухом, который трепетал от гласа молитв и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных».
Еще прямее выражена мысль духовного убежища в другом «Слове», говоренном при освящении храма его: «Если для любви к совершенному безмолвию и в обителях часто бывает тесно, и в диких пустынях не совсем свободно, а доставить ей благоприятное для нее убежище должно быть полезно и ныне, как полезно было прежде, то где мы поселим ее ныне, в сем веке мол вы многия? Не будет ли, может быть, ей приятно поселиться в малой, простой, уединенной, от молвы по возможности огражденной обители, под тенью обители вели кой, подобно как некогда безмолвствующий Варсонофий Великий обитал в совершенном уединении под тенью аввы Серида?» («Слова», ч. II, 512).
На это убежище духовного успокоения и молитвы не употреблено ничего из тех материалов, которые добываются в недрах гор. Одна растительная природа, наиболее доступная человеку, предложила свое простое вещество. Деревянная церковь, напоминающая самое первоначальное церковное зодчество у нас, взята из села Подсосенья. Она была сложена повелением архимандрита Дионисия. Сосновые срубы ее, несмотря на 200 с лишком лет, остались невредимы. В верхнем храме во имя Успения Богоматери иконы частью древние, а другие – вновь написанные в древнем стиле. На южных дверях находится изображение спасенного разбойника. Замечательны правильность и жизнь в телесных очертаниях. Стиль напоминает Перуджинову кисть, создавшую изображение святого Севастиана. Крест вырезан из дерева, служившего для престола прежней церкви. По обеим сторонам на стенах храма – иконы и вместе портреты преподобного архимандрита Дионисия, строителя прежнего храма, и святителя Димитрия Ростовского. Нет ни одного украшения, которое бы противоречило мысли целого.
В нижнем храме – престол во имя Страстей Христовых. Здесь для изображения их допущено и новое искусство. Всякую пятницу, как день посвященный воспоминанию о смерти крестной Спасителя, совершается литургия. Неумолкаемо раздается чтение Псалтири.
Так всё, всё знаменует здесь сознательное возвращение к разуму первоначальной нашей Церкви: внешнее великолепие и блеск затмились перед простотой и смирением, от которых пошла и сила нашей Церкви, и сила жизни народа и царства.
Последние минуты в Троицкой обители провел я в прогулке по стенам двухэтажной ее ограды с А.В. Г-им. Окрестная природа рисует мирные ландшафты в амбразурах стен, память историческая предлагает грозные воспоминания, которых отголосок жив в каждом камне. Нижний этаж дал трещины во многих местах, оттого что толща ограды строена в два приема. Ограда, охранявшая обитель и Россию от врагов, теперь служит для мирных и торжественных шествий благополучной Церкви, которая по ней носит свои хоругви и иконы, сопровождаемые клиром и толпами усердного народа. Да иногда молодые ученые духовной академии гуляют под массивной тенью этих сводов, как философы древности в своих портиках, укрытых от солнца.
Александров
На сорок верст отстоит Александров от Троицы. Дорога небольшая, но проезжая. Колеи такие, что способу нет, а когда грязь, так не приведи Господи! Сна чала однообразно тянется она перелесками, потом несколько оживляется. Путь сокращал мне извозчик Фаддей, очень умный малый, которого подрядил я в Троицком посаде до Александрова. Память святого жива в народе. «Потрудился Сергий Чудотворец для народа, – говорил мне крестьянин, – всем послужил. Колодцев с десять он все вырыл. Ведь тут везде был лес дремучий, звери жили, людей никого. Без Сергия Чудотворца не было бы и нам ничего, а теперь им мы живы. У него, говорят, всего было довольно, кто-то ему в келью накладывал; придет и наложит, а кто незнамо. Вестимо, что, чай, были Ангелы».
«Что, владимирцы-то в Александрове как говорят? По-вашему?» – «Нет, там говорят не так чисто, как у нас. Бывалые в Москве конечно говорят почище, а тутошние, в Александрове, присцокивают». – «Смеетесь вы над ними?» – «Зачем же смеяться? Ведь и мы не лучше против ихнего скажем». Мне понравился этот ответ смиренный, это благоволение к другому наречию, хотя оно и противно уху. Крестьянин дальный, наезжая часто в Москву, сам добровольно подчиняется звукам и чистоте образованного наречия Москвы, но москвич не будет смеяться над приезжим провинциалом.
Поводом к этому разговору было село Слотино, которое мы проезжали. Странно мне было вдруг встретить здесь наречие новгородское. Женщина, у которой мы спросили квасу, сильно цавокала. «Вот вам цашецка», – говорила она. Крестьянин, муж ее, говорил чище, чем она, – виден человек езжалый. Это привело меня к тому заключению, что наречия местные изучать надобно от женщин-домоседок, которые не покидали родины. От мужика же вы редко услышите чистое первоначальное наречие его села или деревни. Чуждое влияние всегда уже будет заметно в его речи.
Как зашло сюда наречие новгородское? Слотино существовало уже во времена Грозного. Когда царь выселился из Москвы в слободу, грозя оставить царство, тогда епископы, поехавшие к нему туда уговаривать его о возвращении, остановились в Слотине. Здесь же остановился князь Владимир Андреевич с женой и детьми, когда ехал на оправдание к Грозному. Сюда явился разъяренный царь с толпой всадников, эту деревню они окружили с обнаженными мечами, в одном из сельских домов скрылся царь; сюда привели к нему князя Владимира с его семейством – и здесь он погиб жертвой его неистовых подозрений. Никак нельзя вообразить, чтобы это село, более похожее на деревушку, могло быть когда-нибудь свидетелем таких трагических событий.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: