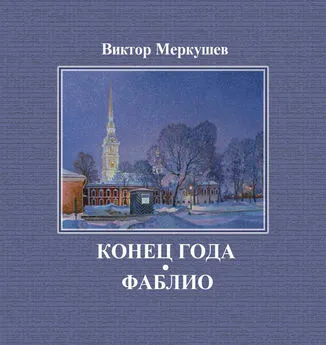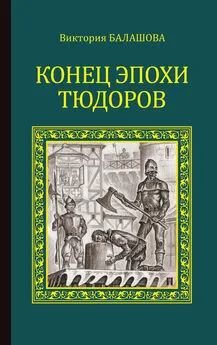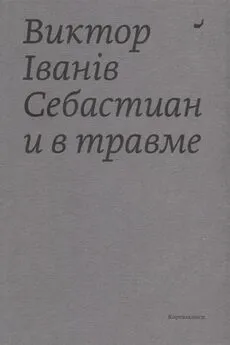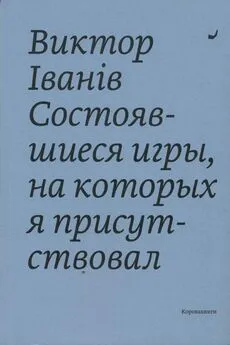Виктор Iванiв - Конец Покемаря
- Название:Конец Покемаря
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-902945-22-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Iванiв - Конец Покемаря краткое содержание
От редакции.
анонс. doc
анонс книги Конец Покемаря. doc
Текст публикуется в авторской редакции, без каких-либо изменений, как своеобразный артефакт, интересный с точки зрения социологии литературы документ. Но не только. Аннотация содержит декларацию вовне исповедуемых писателем художественных принципов, реализованных в книге или, скорее, их проекцию, сформулированную по требованию.
Книга содержит нецензурную брань
Конец Покемаря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Случай помешал мне. Я снова приехал в деревню по своим делам и остановился на окраине леса у самой высокой сосны. Я увидел стоящих и разговаривающих с Девочкой-Солнцем двух мужчин, в одном из которых я узнал иранского колхозника, а во втором – ее брата. Душевное помрачение овладело мной, черное облако разлилось перед глазами. Я дал выстрел. Пуля прошла ему между глаз. Я подошел ближе и увидел немую сцену: иранец целовал взасос губы Солнца. Они вообще не заметили ни бесшумного выстрела, ни трупа, и медленным шагом направились по освещенной лунной дорожке.
Я похоронил тело в лесу в той единственно вырытой волшебной могиле. Следов его не нашли. Поиски начались с недельным опозданием. Они никогда не увидят его в лицо. Свободная любовь на смертельно опасном и сверхсекретном объекте рассеялась после удара молнии, поразившей сенсор головной башни. Базар, церковь и бордель исчезли. Осталось лишь кладбище, по которому носятся видения, тревоги, муки прежних дней. Но бывают и вспышки солнечного света, потому что задание, данное императрице, было выполнено – глаз солнца был настроен точно. Весной кладбище начнет плодоносить. Я убил не того человека. Лицо Девочки-Солнца превратилось в мертвую маску. Ее лицо высосало насквозь второе, черное солнце в вершине короны всех координат. Ее здесь нет, здесь нет никого, только тени и шкурки ящериц на оконном стекле. Во мне нет ни капли жалости, ни капли сожаления, ни капли сёст(р)ыдания, и нет никакого желания уничтожить дезинформатора. Он не обрезан, хотя это требуется сделать в двух местах – вырвать и язык, и причиндалы. Довольно о нем. Его дело полоть огород.
Жирный шифр, в инее шарф
I. Курево
ПОКА НЕ КУРИЛ
Выпал из сна, и никто не поймал. На ногах нашел себя у окна, а верней, не себя, еще до того, как в память пришел, увидел влетевшего в комнату голубя, жирного, мясного, теплого, – расселся, развалился на подоконнике. Взял в руки, забился в руках, страшный, живой – не такой, как со свернутой колесом головой и растерзанными кишками, не такой, как спрессованный в папье-маше шиной. Выбросил в окно как чуму, тварь, заразу, дурное предчувствие. Хотя рассказали потом, успокоили навсегда, что не голубь, ласточка должна прилететь, постучаться в окошко, из глиняного домика своего. Но пропали ласточки у нас, да и не было их никогда.
Приложился головой к валику и отвернулся к стенке. Руки протянул вперед, роняя и догоняя чайную чашку останавливающим движением, опираясь перстами за воздух. Вытянув шею из пиджачного ворота, вывернулся из объятий, отвернувшись от укоризн, отошел от бодряка дорогого – не спал до этого сутки. Больше суток не позволял себе теперь, потому что за хрустальными сутками, копотью на пальцах, хлороформом начинался вдруг флюгер-ветряк, по которому раз повело-умотало. Заваливался, заливался на бок и не долетал до следующей остановки. А передвигался прыжками. А если и долетал, то лишь далекий голос больниц. В самые большие глаза глядели провал за провалом, пропасть за пропастью, и всякий раз бултыхался на дне, на дынном мелованном донце. Положил себе сутки, да как бы не наложил руки.
И барахтался, забоялся в простенке, и только на миг выключился, отключился, потеряв ум, точно ударившись головой об стол – как друг тогда бил, не в силах больше бороться, а он бил друга. Наткнулся на твердую не то мысль, не то пилюлю, и очнулся, растопырив руки, растворив окна, – у той же стенки, на подъездном козырьке.
А полез туда за папиросами погарскими, копоть которых невозможно было вдыхать, которые мгновенно гасли. Выбросил в щель наклонного подъездного окошка на крышу того козырька. Взялся было за дело – не курить смело. Три часа претерпел, пропотел вчера, а потом побежал по лестнице вниз стремглав, и выбежал на весенний ледок, поскальзываясь вперед и назад, закачался, но потянул вверх руку – лежат ли погарские, початые, полосатые? А вдруг бы, дрогнув, схватил пустоту?
Хотя как же, нет, начал припоминать, тогда не курил еще, но уже носил разрисованный гуашами пионербол-барабан, и ходил по весенним мартовским улицам, когда ветерок лихорадочный отдувал ворот, горело лицо, и ездил ждать-встречать на дальнюю станцию метро – четыре часа ждал-торчал, но не дождался, пробежала мимо, проглядел видно, ждал-провожал. Тревожно вслушивался в трамвайный шум за окном, в автомобильную фальшь, и расчерчивали лучами верх серого потолка фары. И не мечтал тогда, только мучился.
Еще слабая тусклая лампа горела, и красным стоял от пыли шкаф, а на нем пригорали надписи книг. И лежа разбирал надписи, и слова повторял. Сами с собой, выходя из печатной обводки, из рваной брошюрки, повторялись слова: святая рептилия, божий одуванчик, штатив, штатив, заклад. Закладушник что лютик тщедушный. И учителка-химинька перед глазами, и штативом, штативом по накалённой башке. Повторял: «нет, нет, слава, слава аллилуйя», а затем набегало на уста по себе само богохульство, и вновь – «святая рептилия, Христос – святая рептилия», и махал штативом, и штатив уже сам махался в воздухе, и слова сдавливали горло, раздавали карты до бесконечности, до полного изнеможения, измождения, измудоханья, а потом наступало утро.
И наползал на глаза оторванный козырек фуражки военстроя, а брови выкрашивал в зелено, а вельветовые брюки разрезал до коленных вен, и шел на мост, где стыл ветер. Но не встретил ни разу солдат, и вообще никого не встретил. А глядели все исподлобья, чувствовал на себе взгляд чужой, подтверждал: учись, пока я живой. Чувствовал и когда прыгал за ней через турникетную яйцерезку, а потом уезжал в Искитим, где каньон, и потом возвращался из Искитима.
Раззнакомился раз со Столовниковым, вернее хотел раззнакомиться, в зеленой комнате молчаливого и странного этого медика, когда поздравлял с днем рождения, а рядом были Мордов, Обоина, Чая, Репа и будущий генерал Шандарон. Рассказывали, как выпивали все вместе, но без тебя, дружили еще с гражданской, еще с десяти годов. И судорожный с челкой Репа говорил резиньяции, тоже тайно вздыхал, и потом сказал: за такое признание, исповедь о себе – такую вот исповедь, что не приняла бы и Святая рептилия… Когда только загадывался, а был уже у всех на виду, долгую заповедную речь хотел вести, говорить только правду, сразу всю правду – о чем – о том, что хотел убить, и боролся, мешаясь умом, о том, что хотел истребить, о том, как мучился и умучил себя. Но не приняли ни в клуб Медичи молодой, ни в клуб рецептурный, куда отпускали – а? что? – циклодол, и ходили бледные, испытуя себя, бледным красовались еблом. Хрюня, да, Хрюня, Авдей, и еще Москаленко. А Репа прямо сказал – нужно бить морду – после публичного выступления – да и в чем признался-то – никто ничего ведь не понял – со сцены Дома актера, и потом за четыре года ни разу не поздоровался, так увлечен был придуманной ревностью, так оскорблен был ждунчик наш четырехчасовой, в высшей силе любви разлинован.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: